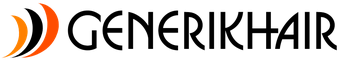Метель повесть анализ. Серебряная метель — Никифоров–Волгин В.А
Виктор Гофман
Виктор Генрихович Гофман родился в 1950 году в Одессе.
Окончил Литинститут (1977).
Публиковался в журналах - «Юность», «Знамя», «Новый мир».
Автор книг стихов: “Медленная река”. М., 1982; “Волнение звука”. М., 1990; “В плену свободы”. СПб., 1996.
Член Союза писателей с 1985 года.
30 октября в своей московской квартире на Малой Грузинской улице был найден убитым поэт Виктор Гофман. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти, имеется пулевое ранение. Виктору Гофману было 65 лет. Сын героя Советского Союза, летчика и писателя Генриха Гофмана, он погиб от рук людей, позарившихся, очевидно, на его коллекцию монет, ордена и медали отца-фронтовика.
Отмечается, что были украдены орден Ленина, Звезда Героя Советского Союза, ордена «Боевого Красного Знамени», «Отечественной войны», «Красной Звезды» и коллекция монет...
| Виктор Гофман | |
"Витя, Витя, поздно кричать вслед, что ты значил для меня, кем ты был, как бережно и ласково относилась к тебе, большому ребёнку...
Эти наши публикации, переписки и переговоры (всё о стихах!); эти твои появления, высоченный, элегантный, с каким-нибудь кульком из кондитерской внизу, (и с детской радостью и восторгом сам же и съедал эти убогие, но навороченные дорогущие сладости, которые я всё подвигала к тебе, уверяя, что мне такое нельзя...).
А этот твой рассказ об операции на глазах, - потрясённо рассказывал, сам хохотал и крутил головой - как сразу после операции, когда вообще ничего нельзя, бежал по Москве на своих длинных ногах за смывающимся такси, я говорила: "Сумасшедший!", он был рассеянно-доволен....
Вот всегда так - теперь и не знаешь, как быть, рухнули все дела и планы, и всё пропало, потому что не стало этого почти святого отшельника на Малой Грузинской, странного пророка, всё последнее время пишущего о скорой гибели...
А неужели это мы, Витька, пировали у отца Валентина втроём: так запомнилось графично: я подаю настоящую лесную дичь, которую долго готовила, на белой крахмальной скатерти стоит нарядное, тёмно-красное вино, и мы счастливые - этим блаженным праздником на троих, на фоне молочного окна, нашей негромкой беседой, Господи, сохрани это в моей памяти навсегда...
Но красная твоя кровь - от выстрела, выстрела, да нет, лучше это не представлять себе.
Только бесчеловечное телевидение показало на рассвете мне, ошеломлённой, оглушённой: как выносят тебя, завёрнутого в чёрный полиэтилен, и ещё видны длинные твои ноги в больших ботинках - такой ты был большой, нигде не помещался..."
Ольга Ермолаева
." Может быть, поэзия Виктора была не очень современна для нынешнего читателя. Он ведь искал чистоту слова. У него классический стиль. Он был знатоком и ценителем поэзии. Его собственная стихотворная ткань насыщена духом русской поэзии, оригинальными интонационными ходами, которые обновляли и актуализировали классический стих. Эксперты его ценили за это тонкое шитье. Не броское, не эстрадное, не на показ другим. Он был романтиком и чрезвычайно добрым человеком. При этом - под два метра ростом, спортсмен, очень сильный физически человек. Сочетание его недюжинной силы с абсолютно наивной ребяческой добротой, умилением по отношению ко всему хорошему, красивому, доброму - поразительно. Виктор был незлобливым человеком. Никогда не говорил: «Вот этого я не люблю, а это ненавижу». У него не было врагов. Он из тех людей, которые ищут только хорошее и гармоничное в природе, мире, в людях...
Конечно, он не жил литературным трудом. Как можно поэту в нынешней ситуации, когда книжки издаются за собственный счет, прожить на литературные заработки. Виктор был библиофилом, коллекционером. Из-за этого он, видимо, и пострадал. Грабители искали его коллекции. А он всю свою жизнь, сколько я его знаю, а знакомы мы с ранней юности, коллекционировал монеты, боны. И был замечательным мыслителем, хорошим собеседником с оригинальными идеями, оценками. У него был замечательный аналитический ум. Из тех людей, кто повлиял на меня, он – в первом ряду..."
Отец Владимир (Протоиерей Владимир) Вигилянский, сокурсник Виктора по Литературному институту.
" Господи, как жалко Витю, моего однокурсника, прекрасного поэта и человека... Светлая ему память.."
Нина Краснова
" Если еще знать, что мать Виктора разбилась в авиакастрофе в Карловых Варах в феврале 1973-го..."
Georgi Yelin
"Мог ли я в самых страшных снах такое себе представить? Несколько месяцев назад мы ходили на могилу к родителям и теперь я еду тебя хоронить..."
Alex Golan
Смешай немного праздности и лени,
Взгляни на ясный, первозданный свет,
И душный куст пронзительной сирени
Дохнёт в тебя из отдалённых лет.
Свободой веет с майского балкона,
И в мир зовёт... И хорошо глазам,
Когда прохладно льётся с небосклона
Неистощимый, голубой бальзам.
Отозван скоро будничной повесткой,
Я буду тлеть в могиле... А пока
Играет ветер лёгкой занавеской,
И в полусне проходят облака.
Нелётная погода
Опять, опять перевернись.
Уже который час не спится.
Метель метёт. Уходит жизнь.
Встают и исчезают лица.
У ночи очертаний нет.
И не садятся самолёты.
И слился хор далёких лет,
В усердьи детском глядя в ноты.
В одном усильи тянут все
Самозабвенно и негромко,
Или на взлётной полосе
Свистит и стелется позёмка.
И вьюга бьётся о стекло,
Как страсть бессильная в разлуке,
А сердце словно затекло
От неподвижности и скуки.
До рейса так и доживём
В полутревоге, полудрёме,
Ворочаясь в краю чужом
И на чужом аэродроме.
Я с каждым днём гляжу благоговейней
и провожаю с нежностью утрату
на строгий быт и первые кофейни,
на просьбы гражданина к магистрату.
Там к зимней стуже запасали уголь
и стойким птицам рассыпали зёрна;
там девушки, похожие на кукол,
в чепцах суровых старились проворно.
Тянулись шпили в холодок лазурный,
и на скамье шептали под распятым;
и не мешал подьём мануфактурный
вниманью смертных к фугам и кантатам.
Когда от сборищ в вычурных камзолах,
карет, дорог и повседневной пыли
ступени вздохов, гулких и тяжёлых,
протяжным эхом в небо восходили.
Когда смиренью обучались в хоре,
и, обручаясь - с верностью любили;
когда писали реквием в мажоре
и провожали буднично к могиле.
Метель
Бесшабашная, дикая сила,
Шумный гость из далёких широт,
Наконец-то метель закружила,
И по всем закоулкам метёт.
Но безумие снежное ближе,
Чем скучающий дождик смурной,
Надоело в исхоженной жиже
Чертыхаться и чавкать зимой.
Я люблю этот посвист широкий,
Как в степи пугачёвский набег,
Пусть слепит и царапает щёки,
Бьёт в лицо нескончаемый снег.
Но, когда, горячась, сатанея,
Я иду на неё всё быстрей,
Приближение бездны яснее,
Ощущение жизни острей.
Так долго мечталось о жизни сто’ящей,
и вот под конец ничего не сбылось…
Из прежней воли свежо и ноюще
дохнуло озоном твоих волос.
Измучась в песках переходами пешими,
когда уже, кажется, жар согнул,
как вдруг - за барханами осточертевшими
зовёт, рокочет знакомый гул.
И - словно птица взмахнула крыльями -
в песке увязая - вот-вот, сейчас -
на холм взобравшись в последнем усилии -
на синюю радость не хватит глаз.
Со всем, что мне дорого, ты умирала:
с хорами созвездий и эхом веков,
стонала и таяла влага Арала
в тисках наступивших на горло песков.
Но утренним зовом походного горна,
забытой тревогой меня позвала -
и плещет вода в пересохшее горло,
и просятся в руки два крепких весла.
И вновь эти зыбкие тянут просторы
заботы сменить на огни маяков;
и снова звучат трагедийные хоры
суровых созвездий над эхом веков.
Жить невозможно в тупом постоянстве
и комарином жужжаньи забот;
всё перемелется в этом пространстве,
в мутный затянется водоворот.
Не потому ль от тоски монотонной
тянет мятежно ступить за порог
дрожи вагонной и доли бездомной,
зыбкой свободы сквозной ветерок.
Годы минуют; и воля устала
чахнуть смиренно средь пыли и книг -
здравствуй, пронзительный запах вокзала
и отправленья качнувшийся миг.
Позднюю боль одинокого волка
примут в объятья иные края,
вновь приютит меня верхняя полка,
в поле плывущая келья моя.
С домом и миром в высокой разлуке
в мареве воспоминаний и грёз -
всё растворить в нарастающем стуке
вдаль уносящих куда-то колёс.
«…нелепая, любимая земля»
К. Симонов, «Поручик»
Как живётся, крошечка?
Видно, нелегко.
«Курочка, картошечка,
водочка, пивко…»
Постоит, уносится
поезд в темноту,
и разноголосица
смолкнет на посту.
До иного скорого
хмурого в ночи,
дяди, у которого
кончились харчи.
Юркие, усталые
стайки матерей
вьются за составами,
кличут у дверей.
«Курочка, картошечка,
водочка, пивко…»
Подожди немножечко.
Станет всем легко.
Жара
Настойчивой томит голубизною
небесный свод, и всё сильней печёт;
и время, обмелевшее от зноя,
ленивее, медлительней течёт.
За трапезой дородные узбеки,
степенно разместившись на полу,
от наслажденья прикрывая веки,
к сухим губам подносят пиалу.
Привычно им в полуденной истоме
беседовать вальяжно на ковре,
всё на местах - жена и деньги в доме,
аллах на небе, дети во дворе.
Кружатся мухи над зелёным чаем,
в пустых тарелках высыхает жир;
привычный зной тягуч и нескончаем,
и под высоким солнцем прочен мир.
«…лепечет мне таинственную сагу…»
Лермонтов
Когда «вовчики» выкурят «юрчиков»
и в ущелье защёлкнут капкан,
на закуску нарежут огурчиков
и осушат победный стакан;
Когда «юрчики» выкурят «вовчиков»
ради чистого сада вдали,
не позволят в строю разговорчиков
над обугленным мясом земли;
Мне б собраться с последними силами,
уползти от людского жилья,
над селеньями и над могилами
напоследок прилечь у ручья.
Пусть журчит эта сага студёная,
убегая, блестя меж камней,
о сверкающей сабле Буденного,
о погубленной жизни моей.
Помню жар прокуренных собраний,
полуночных споров хрипоту;
эшелон в редеющем тумане,
тюфяки тифозные в поту.
Опиумный ветер Семиречья,
пыльных юрт пологие горбы,
гибнущее племя человечье
в вязкой лаве классовой борьбы.
И когда, уже не зная страха,
с каждым шагом обращаясь в лёд,
крестный путь - от шахты до барака -
доходяга тупо добредёт, -
Сунуть ноги в рукава бушлата
и, свернувшись, надышать тепло,
провалиться сердцем без возврата
в те края, что время унесло,
В скачки девятнадцатого года,
смех казашки и плывущий зной…
Отпылав в скитаньях и походах,
всё пребудет вечной мерзлотой.
Басё
Ветер плечи твои согнул,
истрепал соломенный плащ;
под его сиротливый гул
слушай цапли осенней плач.
Говорил о судьбе монах
у теченья большой реки,
и качаются на волнах
облетевшие лепестки.
Завтра выпадет первый снег, -
и захочется мир вдохнуть,
и отправится человек
в свой последний, морозный путь.
До селенья двенадцать ри,
там заждалась тебя родня;
на холодной заре замри
перед белым простором дня.
Незаметно промчался век,
и слились впечатленья лет;
и заносит летящий снег
на снегу одинокий след.
Замерзающий бомж
Где я кружился?
Куда я бежал?
Вот я сложился,
как в маме лежал.
В чёрную стужу
Богу шепчу:
«Больше наружу
я не хочу.
Мучить негоже
на рубеже,
Господи, Боже
вот я уже».
Козловский
«Я встретил вас…»
Уже последняя дремота
безволит дряхлые виски,
а он из сердца тянет что-то,
привстав над миром на носки.
На сцене седенький и ветхий
дрожит слабеющей струной,
тоскуя ввысь, как птица в клетке
о прежней свежести лесной.
В пережитое тянет руки
и в звук перетекает весь
о том, как тяжело в разлуке
со всем, что отзвучало здесь.
О снеге
Как медленно листья ложатся
в бессмертную слякоть земли,
и скоро уже закружатся
под небом родные мои.
Когда временами дыханье
морозного ветра замрёт,
люблю ощущать их порханье,
их лёгкий, безвольный полёт.
Неслышным, медлительным роем
витают они надо мной
и будто небесным покоем
касаются муки земной.
Как будто рукою прохладной
коснулись горячего лба,
и в этой мелодии плавной
теряются жизнь и судьба.
Павел
В ту ночь его бессонница томила,
он вышел рано, поднятый тоской,
и в сумерках предутреннего мира,
поёжившись, пошёл на шум морской.
Он продвигался в йодистом тумане
и влагу ощущал на бороде,
и, как редело утро над волнами,
светлело в нём - он подошёл к воде.
Как он любил у моря час восхода,
когда вдали без края и конца
сливаются смиренье и свобода
в проникновенной близости творца.
И все заботы о церквях и братьях,
и проповедь незрячим о Христе
теряются в его больших объятьях,
в его неизречимой простоте.
…Кто от него в узилище страдали
слились в единый, ноющий упрёк,
и с пеною ползущей у сандалий
накатывались волны на песок.
И он увидел завершенье жизни
в оковах Рима - явственно почти,
что на алтарь заоблачной отчизне
во искупленье должен принести.
Вдохнул тревожно давний воздух Тарса,
увидел дворик с чахлою травой…
В чужом порту он зимовать остался,
чтоб морем в путь пуститься роковой.
Позорных лет и заблуждений ранних
тебя уже не гложет маята,
настойчивый, тринадцатый посланник,
единственный не слышавший Христа.
Неспешно тучный поднимался в гору,
в раздумии качая головой,
за ним - уже не видимое взору -
блестело море вечной синевой.
Он миновал обратную дорогу
и оглядел рассеяно жильё;
позвал друзей и помолился Богу,
и начал в Рим послание своё.
Как я любил сугробы эти,
Покой застывших берегов,
Скрип на дорожке в лунном свете
Сосредоточенных шагов.
Чего ещё просить у Бога,
Когда блажен и одинок:
Простая, белая дорога
И чистый, звёздный холодок.
Помедли на мосту у пруда,
Под ясной бездною замри:
Перенесись ко мне оттуда,
Меня по крохам собери.
От этой жизни мутно-серой,
Упрямой спячки и стыда
К истокам мужества и веры
Веди меня через года.
Как Моисей к вратам Синая
В песках сомнений и невзгод,
Высокий посох поднимая,
Вёл маловерный свой народ.
Двадцатый
Потоми на знакомом перроне,
И под долгий колёс перестук
Увези меня в тесном вагоне
На вдали догорающий юг.
Пусть дымят, и кемарят от скуки;
Мутноватые стёкла дрожат;
Разобщённые временем руки
Над пустыми полями кружат.
Тянет в тамбуре гарью дорожной,
И гудок замирает глухой…
И пошлёт мне Господь невозможный,
Как из будущей жизни, покой.
Словно в кадрах замедленной съёмки,
Станет мир онемевший далёк;
Пусть толпятся мешки и котомки,
И со станций несут кипяток.
Пусть никто никого не встречает,
Где горит колыбельный закат;
Пусть вагон обречённо качает,
И колёса упрямо стучат.
Домой
Я ещё по тропинке притоптанно-твёрдой,
По сырому снежку в подмосковном лесу
До заветной калитки со старой щеколдой
Драгоценную нежность свою донесу.
И воспряну в призыве окрестного мая
Там, где к столику лист прошлогодний налип,
Где безумьем грозя и сердца надрывая,
Разливается запах проснувшихся лип.
Доберусь по затишью с улыбкой неловкой
В отдыхающем воздухе светло-пустом
До опавших берёз с бельевою верёвкой
И собаки навстречу с неуёмным хвостом.
Командировка
Ни жизни гимн в весеннем парке
В сирени последождевой,
Ни упоённый ветром, яркий
Упругий серфинг над волной,
Ни снег, искрящийся просторно
Вокруг ликующей лыжни,
Ни брызги утром речки горной -
Уже сквозь годы не видны.
Одна стоит, не оседая,
Уже бессмертная почти,
Степей киргизских пыль сухая,
Как поступь дней в конце пути.
Равнины выцветшей, убогой
Сухая в трещинах тоска,
И клубы пыли над дорогой
За маетой грузовика.
Восток
Где томится веками
Раскалённый Восток,
Только солнце и камень,
Только мёртвый песок.
Как мольба без ответа
Из тоски мировой,
С высоты минарета
Изнывающий вой.
И дыханье пустыни,
Как изгнанья печать,
Чтоб забыть о гордыне
И по раю скучать.
Малеевка
Забыть обо всём и сбежать бы
От белых колонн на крыльце
По твёрдым ступеням усадьбы,
И спрыгнуть у клумбы в конце.
Вдоль сада и мимо беседки
В кроссовках легко пронестись;
Лететь и отбрасывать ветки,
Ликуя, стремительно вниз,
Где к пруду тропинка крутая
Вся в зарослях - жизни полна -
Где ждет на воде золотая
В привязанной лодке она.
Всё досталось безлюдью и вьюгам.
Даже Сольвейг уже не поёт.
За полярным спасительным кругом
Одинокое солнце встаёт.
Там хотел бы устать и причалить,
Где тяжёлые ветры свистят,
Где бросается море на наледь,
И над брызгами чайки кричат.
Я со всеми скучал и крепился,
Но когда мы к земле подойдём -
Только ветер окликнет у пирса,
Только чайка помашет крылом.
Уповая на слово Господне,
Завершаются наши труды,
Опускаются шаткие сходни
На твердыню у тёмной воды.
Немая речь
“…иль дней былых немая речь”
А. Фет
Один бы только день! В тумане первых улиц
С вокзала в ранний час представить на ходу
Что на Крестовском - тишь, и уточки проснулись:
Ныряют в полынью и топчутся на льду.
Сквозь морось добрести, пристать у Грибоеда,
Где дремлет пара львов над мостиком крутым.
Немного отдохнуть... слоняться до обеда…
И каждый миг гореть свиданьем золотым!
Где у просторных льдов застыли две колонны,
Где ветры над рекой пронзительно свистят,
Узнать издалека твой облик оживлённый
И увидать вблизи твой чуть раскосый взгляд.
В подвальчике вином согреться у собора,
И, изнывая вновь от этих детских плеч,
Услышать, как вдали - за гребнем разговора -
Мигая, как маяк, - звучит немая речь.
Ты та же, что всегда! Припомни всё, что было.
Скользни по волосам небрежною рукой…
Я долго бы смотрел, когда ты уходила…
Один бы только день! А там - и на покой.
Апрель
О, как блестят, волнуя, ледяные
и рыхлый снег, и талая вода;
вздохну весной, припомню дни иные,
пойду, пойду неведомо куда.
Какой-то луч из жизни отдалённой
пробьётся и на луже задрожит,
и только ветра пыл неутолённый
в сухих ветвях над слякотью свистит.
Живи вдали. Уже написан Лужин.
И не казнись - мне в меру тяжело.
Я лишь плыву корабликом по лужам
туда, где всё случилось и прошло.
Что в этом солнцем городе залитом
уже без сил ещё бродить влечёт
и, щурясь, соглашаться с Гераклитом:
всё на земле и тает, и течёт.
На улице
Хотя ошейник всё ещё на месте,
заметно одряхлел и одичал,
и смотрит глубоко из пыльной шерсти
суровая, покорная печаль.
Он брошен был или хозяин умер,
но кое-как обвыкся и живёт;
и я теряюсь в этом беглом шуме,
и мне уже пора за поворот.
И пусть ясней с годами, что оттуда
кромешным тянет холодом одним,
кого благодарить за это чудо
отжившим сердцем горевать над ним.
Среди миров, в гордыне неизменной
кружащихся бесстрастно и мертво,
непостижимо посреди Вселенной
в груди трепещет странное тепло.
И что мне в нём - суровом и лишайном,
кочующим неряшливой трусцой;
откуда в этом холоде бескрайнем
печаль и нежность к участи чужой?
Как я счастлив на этой неделе!
Небывалый простор впереди.
Незаметно леса облетели,
но последние медлят дожди.
Хорошо быть простым и покорным,
видеть небо и дни не считать,
и за делом пустым и упорным
уходящую жизнь коротать.
Отпустили на волю желанья,
сожаления ветер унёс,
и сквозит холодок расставанья
в прояснившихся ветках берёз.
Оттого ль, что расстанемся скоро,
напоследок острей и светлей
горьковатая радость простора
опустевших, свободных полей.
Как в полёте, накренится местность,
мокрые заноют провода,
и моя несбывшаяся нежность
поплывёт в последний раз туда,
Где, смотря в промозглые потёмки,
в необъятном городе ночном
девочка сидит в бензоколонке,
курит зло и борется со сном.
Ведь не зря предупреждали,
это тягостный транзит,
от толкучки на вокзале
трупным запахом сквозит.
От газетного киоска
блудным зудом и тоской,
от высокого подростка
зоркой хваткой воровской.
Догрызай своё печенье
на заёрзанной скамье,
впредь - до пункта назначенья
лишь качанье в заключенье
по железной колее.
Где ложатся в такт качанья
сожаленья, забытьё
и в стакане ложки чайной
дребезжащее нытьё.
Где прошлись по перелескам
зубы острые пурги,
где за жухлой занавеской
не видать уже ни зги.
Малеевка
Как всё-таки глупо бывает вначале:
суровым призваньем по-детски горды,
мы счастья презрительно не замечали,
на свежем снегу оставляя следы.
И лишь у минувшего вязких развалин,
когда собирает в дорогу рожок,
светло и мучительно я благодарен
за чистый у наших коттеджей снежок.
За свет в биллиардной: игроцкие шутки
под крепкий портвейн и дуплет от борта;
и лёгких студенток короткие шубки,
и радость, и робость, и пар изо рта.
За то, что с похмелья больными глазами,
томясь маятой и бессильем веков,
в потёртой фуфайке в пустом кинозале
на гордом рояле играл Росляков.
За лёгкость скольженья на лыжах казённых,
и чувство: прибавить чуть-чуть - и взлетишь,
за ветер свистящий в полях занесённых
и звёздных прогулок хрустящую тишь.
Такие в сугробах застывшие липы
я в будущей жизни уже не найду
и эти навстречу спешащие скрипы
по мягкому снегу, по чуткому льду.
Наташа
Искрилась звонками советская школа,
и строили козни враги;
задорно и чисто звала радиола
в зелёное море тайги.
Ты помнишь, как песню в дороге качало,
солдат на гитаре играл;
как радостно сердце над миром стучало,
когда миновали Урал.
Как всё промелькнуло!.. Сменила разруха
всеобщий задор и размах;
под мелким дождём ковыляет старуха
в облезлый районный продмаг.
В грязи непролазной качаются доски,
натянут платок до бровей,
и ветер твои продувает обноски
и свищет над жизнью твоей.
И скоро устало и неотвратимо
последние смолкнут шаги…
Бесстрастное море тебя поглотило,
зелёное море тайги.
Проснуться в детдоме районном,
и сразу в сознаньи всплывут
слова в уголке потаённом
“Сегодня за мною придут”.
В унылом приёмном покое
уже от палат вдалеке
заждавшейся мокрой щекою
прижаться к шершавой щеке.
Всё чище, всё легче, всё чаще
(Дюймовочка? Птичка? свирель?)
Трепещет и льётся из чащи
Какая-то чудная трель.
Над зеленью тенькает, свищет,
Справляет забвенье забот,
Всё выше, всё легче, всё чище -
Волнуется, вьётся, зовёт.
И вот уж совсем недалече
Парит над сплетеньем ветвей
Всё выше, всё чище, всё легче,
Воздушнее, тоньше, светлей.
Этот крест не отдам никому.
Это бремя завещано мне,
Как упрямая песня в дыму,
Как пылающий голос в огне.
И, когда догорит на земле
Тяжело развалившийся сруб,
Я - как шорох в остывшей золе,
Немота у запёкшихся губ.
Оттого мне и ноша легка,
Что со мной дирижёр говорит,
И над жизнью взлетает рука:
То взлетает рука, то парит.
У памятника
Под нависшим беспробудным небом
С горестно поникшей головой,
Заметаемый декабрьским снегом,
Ты сидишь над праздничной Москвой.
Снег ложится на худые плечи.
Тяжело в забвенье замерзать.
Мне тебя укрыть сегодня нечем,
Не утешить, слова не сказать.
Мир проходит – делает покупки,
Приминает тающий снежок,
Толчет души, как алхимик в ступке,
И меня стирает в порошок.
Мне ещё бежать по магазинам,
Тёмный дух заботою терзать,
В смрадном выживании крысином
Десять раз из гроба выползать.
Через век в бессилии усталом
Посмотреть на город тяжело,
С головой накрыться одеялом
От друзей, от мира, от всего.
И ветер, веющий стремительно и буйно,
И развевающий, и рвущий волоса.
И моря вольный блеск, ходящий многоструйно –
О, беспредельная, о, мощная краса!
То всё в ней яркий блеск, зыбящийся и пирный –
Обломки светлых льдин и горных хрусталей,
То бархат шелестный, спокойный и сапфирный,
То рябь червонная пылающих углей.
То словно старцев рой с лучистой сединою,
Плывёт встревоженно под зыбкою волною,
И ветер дерзко рвёт седые волоса.
То над сапфирностью безбрежной и бездонной –
Вдруг словно рёв и спины прыгающих львов.
О, как красива мощь их схватки разъярённой
И белопенность грив и всклоченных голов!
И ветер буйно рад игре своих порывов,
И сердце пьяно, пьяно дикою мечтой.
И море всё горит сверканьем переливов
И величавою, и вольной красотой!
Сентябрь 1904, Алупка
Апрель
Душа, живи как все в природе,
Люби неведомую цель.
Смотри, на синем небосводе
Опять зацарствовал апрель.
Всё опьянилось тонким хмелем -
И свет, и воздух, и глаза.
Всё дышит радостным апрелем,
Во всё проникла бирюза.
Всё верит: чудо совершится,
Воскреснет жизнь - и в этом цель.
Мир лучезарно возродится, -
Ведь снова царствует апрель.
Лишь ты одна во всей вселенной,
Весну сознаньем заглуша,
Не можешь быть светло-блаженной,
Порабощённая душа.
О, будь как все, вернись к природе,
Сознаний бремя удали,
Прильни к лучам на небосводе
И к вешним трепетам земли.
И чудо жизни совершится -
Воскреснешь ты - и в этом цель.
Мир лучезарно озарится, -
Ведь снова царствует апрель.
Безнадёжность
Снег серебристый, душистый, пушистый.
Санок искрящийся бег.
Серое небо пустынно и мглисто.
Падает медленный снег.
Весь изнемогший, как люди продрогший,
Месяц томится вверху.
Снег, на губах от дыханья намокший,
Тает в пушистом меху...
Мрак и ненастье. И безучастье.
В грудь безнадёжность впилась. –
Надо ведь счастья хоть раз...
Встретился кто-то. Прошёл озабочен:
Встретился кто-то в снегу.
Ветер и холодно. Холодно. Очень.
Месяц в туманном кругу...
Ряд фонарей убегающий ровно.
Всепроницающий мрак. –
Губы отверженных женщин бескровны,
И неуверен их шаг.
Снег и ненастье. И безучастье.
В грудь безнадёжность впилась.
Хочется счастья. Как же без счастья?
Надо ведь счастья хоть раз.
Больное счастье
Я хочу, чтоб прошедшее было забыто.
За собой я огни потушу.
И о том, что погибло, о том, что изжито,
Я тебя никогда не спрошу.
Наше счастье больное. В нем грустная сладость.
Наше счастие надо беречь.
Для чего же тревожить непрочную радость
Так давно ожидаемых встреч.
Мне так больно от жизни. Но как в светлое счастье
Ты в себя мне поверить позволь.
На груди твоей нежной претворить в сладострастье
Эту тихую, тихую боль.
Пусть не будет огня. Пусть не будет так шумно.
Дай к груди головою прилечь.
Наше счастье больное. Наше счастье безумно.
Наше счастье надо беречь.
В лодке
Ярко-пенистых волн переливы
Затихают, пурпурно горя.
Берега задремали лениво –
Запылала пожаром заря.
В небесах на мерцающем фоне –
Облаков позолоченных рой.
Это – белые, быстрые кони
Обагрённые волны горят. –
Мы плывём в беспредельном просторе
Прямо, в закат!
В церкви
Во храме затуманенном мерцающая мгла.
Откуда-то доносятся, гудят колокола.
То частые и звонкие, то точно властный зов,
Удары полновесные больших колоколов.
Торжественны мерцания. Безмолвен старый храм.
Зловеще тени длинные собрались по углам.
Над головами тёмными молящихся фигур
Покров неверных отсветов и сумрачен и хмур.
И что-то безнадёжное нависло тяжело,
Тревожно затуманивши высокое стекло.
И потому так мертвенен убор парчовых риз,
И потому все люди тут угрюмо смотрят вниз.
Есть это безнадёжное в безжизненных святых,
В их нимбах жёлто-дымчатых, когда-то золотых.
И в лицах умоляющих пригнувшихся людей,
И в шляпках этих впившихся, безжалостных гвоздей...
И ты, моя желанная, стоишь здесь в уголке.
И тоненькая свечечка дрожит в твоей руке.
Вся выпрямившись девственно, беспомощно тонка,
Сама ты – точно свечечка с мерцаньем огонька.
О, милая, о, чистая, скажи, зачем ты тут,
Где слышен бледным грешникам зловещий ход минут.
Где все кладут испуганно на грудь свою кресты,
Где свет едва мерцающий чуть дышит наверху.
Где плачут обречённые давящему греху.
Где прямо и доверчиво стоишь лишь ты одна,
Но тоже побледневшая и вдумчиво-грустна.
Скажи, о чём ты молишься? О чём тебе грустить?
Иль может ты почуяла таинственную нить,
Что душу обхватила мне обхватом цепких трав,
С твоею непорочностью мучительно связав.
О, милая, прости меня за мой невольный грех.
За то, что стал задумчивым твой непорочный смех,
Что вся смущаясь внемлешь ты неведомой тоске,
Что тоненькая свечечка дрожит в твоей руке,
Что ближе стали грешники, собравшиеся тут,
Ловящие испуганно зловещий ход минут,
Кладущие безропотно на грудь свою кресты,
Почуя близость вечности и ужас пустоты.
Васильки
Точно волны зыбучей реки.
Ослепительно полдень хорош.
Васильки, васильки, васильки.
– «Ты вчера обещала сплести мне венок,
Поверяла мне душу свою.
А сегодня ты вся, как закрытый цветок.
Я смущён. Я опять одинок.
Я опять одинок. Вот как тот василёк,
Что грустит там, на самом краю –
О, пойми же всю нежность и всё, что таю:
Эту боль, эту ревность мою».
– «Вы мне утром сказали, что будто бы я
В чём-то лживо и странно таюсь,
Что прозрачна, обманна вся нежность моя,
Как светящихся тучек края.
Вы мни утром сказали, что будто бы я
Бессердечно над вами смеюсь,
Что томительней жертв, что мучительней уз –
Наш безмолвный и тихий союз».
Набегает, склоняется, зыблется рожь,
Точно волны зыбучей реки.
И везде васильки, – не сочтёшь, не сорвёшь.
Ослепительно полдень хорош!
В небе тучек перистых прозрачная дрожь.
Но не в силах дрожать лепестки.
А туда побежать, через рожь, до реки –
Васильки, васильки, васильки!
Вдвоём
Лежу. Забылся. Засыпаю.
Ты надо мной сидишь, любя.
Я не гляжу, но вижу, знаю –
Ты здесь, я чувствую тебя.
Я повернусь – и разговоры
Мы, улыбаясь, поведём,
И наши слившиеся взоры
Блеснут ласкающим огнём.
И ты, ко мне прижавшись нежно,
Моих волос густую прядь
И шаловливо, и небрежно,
И тихо будешь разбирать.
И сев ко мне на ложе друга,
С лучистой нежностью очей,
Ты будешь петь мне песни юга,
Напевы родины своей.
И, утомлённо-полусонный,
Следить я буду без конца
Волненье груди округлённой,
Томленье смуглого лица.
Весне
Весна, приди, не медли боле, -
Мое унынье глубоко, -
Моей усталой, тихой боли
Коснись ласкающе-легко.
Я изнемог от дум бессильных,
От исступления в борьбе,
Как узник из глубин могильных,
Тянусь я с трепетом к тебе.
Природы грустный отщепенец,
Восславивший природный ум,
Я жалкий пленник жалких пленниц -
Навек порабощенных дум...
О, если б быть опять ребенком,
Не думать горько ни о чем,
Тонуть в сиянье нежно-тонком
Под воскрешающим лучом.
Чтоб, затушив мятеж сознанья,
Приникнуть к шелестам травы,
Впивая тихое сиянье
Непостижимой синевы.
Волны и скалы
Сегодня всё море как будто изрыто
Гремящими встречами пен.
Сегодня всё море грозит и сердито
На свой истомляющий плен.
Пушистые клоки, косматые пряди,
Хребты извиваемых спин...
Как страшно сегодня прозрачной наяде
В прозрачности тёмных глубин...
Давно уж носился смущающий шёпот
О дерзостных замыслах скал, –
И двинулось море, и пенистый ропот
Зелёную гладь всколыхал.
Заслышались гулы тревожных прибытий,
Зловеще-поднявшихся спин.
И ропот, и шёпот: бегите, бегите,
До самых надменных вершин.
На тёмные скалы! на приступ, на приступ!
На шумный, на пенистый бой!..
Уж влагой захвачен утёсистый выступ,
И с рёвом взбегает прибой.
Всё новые пены вслед отплескам белым
Разбитой камнями гряды.–
И страшно наядам с их розовым телом
Пред чёрною мощью воды.
Сентябрь 1904, Алупка
День
Иду меж линий испещренных
Тенями солнечных лучей.
Гляжу на мрак дерев склоненных
И убегающий ручей.
Вот, клен ветвистый занавесил
Ручья ленивую волну, -
Сегодня я лучисто весел,
Опять воспринявший весну!
Притихли скромные цветочки,
И даль туманная тиха...
Я рву зеленые листочки,
Природе, погруженной в лень...
А мне милы и лес, и сосны,
И этот мир, и этот день!
Дни умирания
Давно и тихо умирая,
Я - как свеча в тяжелой мгле.
Лазурь сияющего рая
Мне стала явной на земле.
Мне стали странно чужды речи,
Весь гул встревоженных речей.
И дни мои теперь - предтечи
Святых, вещающих ночей.
Звучат мне радостью обета
Мои пророческие сны.
Мне в них доносятся приветы
Святой, сияющей весны.
Я тихо, тихо умираю.
Светлеет отблеск на стене.
Я внемлю ласковому раю
Уже открывшемуся мне.
Какой-то шепот богомольный
Иль колыханье тихих нив,
Иль в синем небе колокольный,
Влекущий радостный призыв.
Прежнее счастье возможно.
Ты мне сказала: приду,
Холодно мне и тревожно.
Нетерпеливо я жду...
Сколько же нужно усилий
Прежнее счастье вернуть!
Мы ведь уж близкими были.
Милая, не позабудь.
Нет, не измученный страстью,
Напоминаю о том.
Просто, поверилось в счастье,
В счастье быть нам вдвоем.
Ходят. Подходят. Проходят.
Поздний, мучительный час.
Долгие тени наводит
Неумирающий газ.
Искушение
Мне не хочется больше идти.
Не взманит меня ласковость грёз.
Каменисто–неверны пути.
Неприступен и страшен утёс.
Я устал. Я упал. Я увяз
В обжигающем мягком песке.
Хорошо в вечереющий час
Ото всех вдалеке, на реке.
О, владычица дремлющих мест,
Чья сквозящая грудь над волной,
Изо всех чаровниц и невест,
Я останусь с тобою одной.
Я останусь навеки с тобой.
Я зароюсь в шуршащий камыш.
Полюблю серебристый покой,
Озарённо-затонную тишь.
Ты давно уже нравишься мне,
И к тебе б мне хотелось прильнуть
Как волна приникает в волне,
Прожигая жемчужную грудь...
Тихо всё на ночном берегу.
Шелестит, заплетаясь, камыш.
Что-то ласково ты говоришь
И томишь. Я идти не могу.
К Богу
Бог! Всемогущий Бог!
Я здесь, трусливый и бессильный;
Лежу, припав на камень пыльный,
В бессменном ужасе тревог. –
Бог! Всемогущий Бог!
Я прибежал к Тебе, неверный,
Чтобы в отчаянье упасть,
Когда почуял, Непомерный,
Твою губительную власть.
Среди разнообразных шумов,
Служа угодливой судьбе,
Метался долго я, не думав
В своём безумье о Тебе.
И вот теперь несу я, мерзкий,
Тебе позор своих скорбей.
О, как я мог, слепой и дерзкий,
Идти без помощи Твоей!
Смотри, я грудь свою раскрою –
Ты – Справедливый, и рази.
Я здесь лежу перед Тобою
И в униженье, и в грязи...
Но Ты услышишь вопль постыдный
И Ты ответишь на него...
Или меня совсем не видно
Оттуда, с трона Твоего?..
Царь! Лучезарный Царь!
Услышь же крики и моленья.
Смотри, в каком я униженье, –
Продажно-ласковая тварь...
Царь! Лучезарный Царь!
Крик альбатроса
Белокрылый, как я, альбатрос.
Слышишь, чайки кричат. Воздух тьмою объят,
Пересветом удушливых гроз.
Это – вихрь! Это – вихрь! О, как ждал я его!
И свободе, и вихрям я рад.
Эти бури над морем – моё торжество.
О, мой брат! О, мой царственный брат!
О, я молод ещё, и ты знаешь, я смел!
О, я смел! Я, как ты, альбатрос!
Я недаром так долго над морем летел,
И ни разу не пал на утёс.
Я с завистливым грифом уж бился не раз.
О, косматый, нахмуренный гриф,
Скоро вырву я твой огнеблещущий глаз,
Глубоко его клювом пронзив.
О, я смел! Я недавно орла одолел,
В исступлённом, жестоком бою.
Как я злобой кипел! Как я бился, хрипел,
Вырывая добычу свою.
Всем ухваткам меня, о мой брат, научи.
Этим схваткам жестоким я рад.
Но смотри... закровавились в небе лучи,
И косматые тучи висят.
Это – бури торжественно-медленный ход.
Это – буря в порфире своей...
Во главе шлемоблещущих ратей идёт
Венценосная буря морей.
Резко чайки кричат. Воздух тьмою объят.
Пересветом удушливых гроз...
О, мой брат! О, мой брат! О, мой царственный брат!
Как я счастлив, что я альбатрос!
Летний бал
Был тихий вечер, вечер бала,
Был летний бал меж темных лип,
Там, где река образовала
Свой самый выпуклый изгиб,
Где наклонившиеся ивы
К ней тесно подступили вплоть,
Где показалось нам - красиво
Так много флагов приколоть.
Был тихий вальс, был вальс певучий,
И много лиц, и много встреч.
Округло-нежны были тучи,
Как очертанья женских плеч.
Река казалась изваяньем
Иль отражением небес,
Едва живым воспоминаньем
Его ликующих чудес.
Был алый блеск на склонах тучи,
Переходящий в золотой,
Был вальс, призывный и певучий,
Светло овеянный мечтой.
Был тихий вальс меж лип старинных
И много встреч и много лиц.
И близость чьих-то длинных, длинных,
Красиво загнутых ресниц.
Люблю
О, девочка моя, твои слова так скрытны,
Но я в глазах твоих все тайны уловлю.
Я твой подвижный стан, прямой и беззащитный,
Так радостно-светло, так ласково люблю.
Когда к твоей руке я тихо прикасаюсь,
Тобою я давно безмолвно восхищаюсь,
Пока - молчали мы, но раз мы были рядом.
Ах, что-то и влекло, и отстраняло нас,
И долго я смотрел любующимся взглядом
В сиянье темное твоих лучистых глаз.
И вдруг твой взор поймал, так нежно заблестевший,
Как будто вся душа, дрожа, в него вошла,
Но вмиг смутилась ты, стыдливо покрасневши,
И вновь потухший взор поспешно отвела.
О, девочка моя, мы связаны тем взглядом,
Заметила ли ты, - все переходит в сон?
Я навсегда хочу с тобой остаться рядом,
Девичеством твоим лучисто осенен.
Сегодня вечером, когда наш знак прощальный -
Прикосновенье рук я ласково продлю,
О, девочка, пойми, что я душой печальной
Тебя и радостно, и ласково люблю.
Меж лепестков
Ты помнишь наши встречи летом
Меж лепестков, меж лепестков?
Где трепетал, пронизан светом,
Кудряволиственный покров?
Ты помнишь, раздвигая травы,
Мы опускались у куста?
И были взоры так лукавы,
И так застенчивы уста.
К стволу развесистого дуба
Затылком приклонялась ты,
И жадно я впивался в губы -
Две влажно-алые черты.
Я обвивал руками шею
И локти клал тебе на грудь.
И называл тебя моею,
И всю тебя хотел втянуть...
Дрожали лепестки смущенно
В волнах вечернего огня...
Зеленоглазая мадонна,
Еще ты помнишь ли меня.
Мимоза
Мы будем близки. Я в том уверен.
Я этой грёзой так дорожу.
Я суеверен. Я весь дрожу.
Мимозой строгой она родилась,
Безгласна к просьбам и ко всему.
И вдруг так чудно переменилась
И приоткрылась мне одному.
Она мимоза. Она прекрасна.
Мне жаль вас, птицы! И вас, лучи!
Вы ей не нужны. Мольбы – напрасны.
О, ветер страстный, о, замолчи.
Я лишь счастливый! Я в том уверен.
Я этой грёзой так дорожу.
Восторг предчувствий – о, он безмерен.
Я суеверен. Я весь дрожу.
Моей первой любви
Когда я мальчик, не любивший,
Но весь в предчувствиях любви,
В уединениях вкусивший
Тревогу вспыхнувшей крови,
Еще доверчивый, несмелый,
Взманенный ласковостью грез,
Ненаученный, неумелый,
Тебе любовь свою принес,
Ты задрожала нужной дрожью,
Ты улыбнулась, как звезда,-
Я был опутан этой ложью,
И мне казалось-навсегда.
Мне; нравились твои улыбки,
Твоя щебечущая речь,
И стан затянутый и гибкий,
И узкость вздрагивавших плеч.
Твои прищуренные глазки
И смеха серебристый звук,
И ускользающие ласки
Слегка царапающих рук.
Мороз
О, не ходи на шумный праздник.
Не будь с другими. Будь одна.
Мороз, седеющий проказник,
Тебя ревнует из окна...
Зажгла пред зеркалом ты свечи.
Мерцает девичий покой.
Ты поворачиваешь плечи,
Их гладя ласковой рукой.
Смеясь, рассматриваешь зубки,
Прижавшись к зеркалу лицом.
Тебя лепечущие юбки
Обвили сладостным кольцом.
Полураздета, неодета,
Смеясь, томясь, полулежа,
В тисках упругого корсета,
Вся холодаешь ты, дрожа.
Teбе томительно заране
В мечтах о сладком торжестве. –
Вокруг тебя шелка и ткани
В своём шуршащем волшебстве!..
Мороз ревнив и не позволит.
Оставь лукавые мечты.
Он настоит, он приневолит.
Его послушаешься ты.
Сердито свечи он задует.
Не пустит он тебя на бал.
О, он ревнует, негодует!..
Он все метели разослал!
Уж он занёс просветы окон,
Чтоб не увидел кто-нибудь,
Как ты приглаживаешь локон
И охорашиваешь грудь.
О, уступи его причуде,
Ты, что бываешь так нежна.
О, не ходи туда, где люди.
Не будь с другими. Будь одна.
Ты знаешь, ведь и мне обидно,
Что ты побудешь у других.
Что будет всем тебя так видно
Средь освещений золотых,
Что будут задавать несмело
Тебя, твой веер, кружева,
Смотреть на ласковое тело
Через сквозные рукава.
Мотыльки
Когда порой томлюсь прибоями
Моей тоски.
Жалею я, зачем с тобою мы
Не мотыльки?
Была б ты вся воздушно-белая,
Как вздохи грёз,
Летала б вкрадчиво-несмелая,
Средь жарких роз.
Летать с тобой так соблазнительно
Среди цветов.
О, как нежна, как упоительна
Жизнь мотыльков!
Нежность
Мы когда-то встречались с тобой,
Поджидали друг друга тревожно.
И казалось нам: можно...
Был эфир голубой.
Серебрил наш весенний союз –
Смех, как струн перетянутых тонкость –
Разбежавшихся бус
Восхищённая звонкость.
Мы смотрели друг другу в глаза,
Далеко, в голубую бездонность.
Называлась: влюблённость –
Наших грёз бирюза...
Но, шипя, подступила зима,
Поседела земля, как старуха.
И морозилась тьма,
И мы кланялись сухо.
Но в душе у меня сбереглось
Что-то близкое ласковой боли, –
Точно стоны магнолий
Между девичьих кос...
Если можешь позволить, позволь.
Мне так больно, и в том неизбежность.
Эта тихая боль –
Называется: нежность.
Осенние листья
Листья осенние жёлтого клёна,
Кружитесь вы надо мной.
Где же наряд ваш, нежно-зелёный,
Вам подарённый весной?
Брошены вы, как цветы после бала,
Как после пира венки,
Словно поношенный хлам карнавала,
Изодранный весь на куски.
Вы отслужили, и вы уж ненужны,
Презренный, растоптанный сор,
Ваш жаркий багрянец, осенне-недужный,
Мой только радует взор.
Прах позабытый умолкшего пира,
Где разрушено всё, разлито,
Листья, вы образ безумного мира,
Где не ценно, не вечно ничто.
Где всё мгновенно и всё – только средство,
В цепи безумий звено,
Где и весна, и светлое детство
Гибели обречено.
Листья, вы будите скорбь без предела
Жаром своей желтизны,
Вы для меня ведь – любимое тело
Так рано умершей весны.
Как же могу я легко, как другие,
Вас растоптавши, пройти,
Жёлтые листья, листья сухие
На запылённом пути?
Песня обещания
Счастье придет.
Дни одиночества, дни безнадежности,
Дни воспаленной, тоскующей нежности,
Счастье как светом зальет,
Счастье придет.
О, не грусти.
О, не желай же всегда недоступного.
Друга неверного, друга преступного
С тихим смиреньем прости
И не грусти.
Ты отдохнешь.
Я наклонюсь и в уста воспаленные
Тихо слова положу упоенные,
Губ моих нежную дрожь.
Ты отдохнешь.
Будет любовь.
Тело застонет от нежного счастия,
Тело душе передаст сладострастие.
Душу готовь,
Будет любовь.
После первой встречи
После первой встречи, первых жадных взоров
Прежде невидавшихся, незнакомых глаз,
После испытующих, лукавых разговоров,
Больше мы не виделись. То было только раз.
Но в душе, захваченной безмерностью исканий,
Все же затаился ласкающий намек,
Словно там сплетается зыбь благоуханий,
Словно распускается вкрадчивый цветок...
Мне еще невнятно, непонятно это.
Я еще не знаю. Поверить я боюсь.
Что-то будет в будущем? Робкие приветы?
Тихое ль томленье? Ласковый союз?
Или униженья? Новая тревожность?
Или же не будет, не будет ничего?
Кажется, что есть во мне, есть в душе возможность,
Тайная возможность, не знаю лишь - чего.
Смех
Как серебристо-пушистый мех.
И туч просветы лучисто-сини.
Как две снежинки, сомкнувшись крепко,
Неслись мы долго среди пространств.
Была ты робкой, была ты цепкой.
Я – в упоенье непостоянств...
Летят снежинки, покорно тая,
И оседая на острия.
Иду. Встречаю. И забываю.
Всё мимолётно, и вечен я!
Встречаю женщин. Зовут улыбки.
И нежен профиль склонённых лиц.
И снег мелькает – он мягкий, липкий,
Он запушает концы ресниц.
На тонких ветках кудрявый иней,
Как серебристо-пушистый мех.
И туч просветы лучисто-сини.
На ветках иней. На сердце – смех!
Смеющийся сон
Мне сладостно вспомнить теперь в отдаленьи
Весь этот смеющийся сон,
Всё счастье моё в непорочном сближеньи,
Которым я был упоён.
Когда, отрешённый от бредных сознаний,
Бичующих пыток ума, –
Я стал серебристым, как звёздные ткани,
Которых не трогает тьма.
Когда, отрешённый мгновенным разрывом
От всех зацепившихся рук, –
Я сделался грустным и нежным, и льстивым,
Твой преданный, ласковый друг.
Мне было так сладко поверить, смущаясь,
Что я не проснусь, не проснусь...
Мне было так сладко беречь, опасаясь,
Наш тихий, наш чистый союз.
И вот в отдаленьи, в задумчивой келье,
Где меркнет полуденный шум,
Сплетаются грёзы, звенит ожерелье
Моих очарованных дум.
Всё было так робко, мгновенно, мгновенно,
Один молчаливый привет.
И сердце смутилось, дрожа и блаженно,
И в сердце – ласкающий свет.
Какая-то радость незримых присутствий,
Которыми весь упоён,
Kaкие-то зовы влекущих напутствий,
Какой-то смеющийся сон.
Со всем, что мне дорого, ты умирала...
Со всем, что мне дорого, ты умирала:
с хорами созвездий и эхом веков,
стонала и таяла влага Арала
в тисках наступивших на горло песков.
Твое кольцоТвое кольцо есть символ вечности.
Ужель на вечность наш союз?
При нашей радостной беспечности
Я верить этому боюсь.
Мы оба слишком беззаботные...
Прильнув к ликующей мечте,
Мы слишком любим мимолетное
В его манящей красоте.
Какое дело нам до вечности,
До черных ужасов пути,
Когда в ликующей беспечности
Мы можем к счастью подойти?..
У меня для тебя
У меня для тебя столько ласковых слов и созвучий.
Их один только я для тебя мог придумать любя.
Их певучей волной, то нежданно крутой, то ползучей,
Хочешь, я заласкаю тебя?
У меня для тебя столько есть прихотливых сравнений -
Но возможно ль твою уловить, хоть мгновенно, красу?
У меня есть причудливый мир серебристых видений -
Хочешь, к ним я тебя унесу?
Видишь, сколько любви в этом нежном, взволнованном взоре?
Я там долго таил, как тебя я любил и люблю.
У меня для тебя поцелуев дрожащее море, -
Хочешь, в нем я тебя утоплю?
У озарённого оконца
Как прежде ярко светит солнце
Среди сквозящих облаков.
Озарено твоё оконце
Созвучной радугой цветов.
Скользя по облачкам перистым,
Бежит испуганная тень,
И на лице твоём лучистом –
Изнемогающая лень.
Ах, я в любви своей неволен...
Меж нами – ласковый союз.
Но ты не знаешь, что я болен,
Безумно болен... и таюсь.
Ты вся как этот свет и солнце,
Как эта ласковая тишь.
У озарённого оконца
Ты озарённая сидишь.
А я тревожен, я бессилен...
Во мне и стук, и свист, и стон.
Ты знаешь город – он так пылен?
Я им навек порабощён.
Ах, я в любви своей неволен.
Меж нами – ласковый союз.
Но ты не знаешь, что я болен,
Безумно болен... и таюсь.
У светлого моря
Мне сладостно-ново, мне жутко-отрадно
Быть кротким, быть робким с тобой.
Как будто я мальчик, взирающий жадно,
Вступающий в мир голубой.
Еще неизведан, и чужд, и не начат
Светло приоткрывшийся путь,-
А сердце уж что застенчиво прячет,
На что не позволит взглянуть.
Еще мне неведом смущающий опыт,
Еще я не побыл с людьми, -
Мой робкий, мой первый, мой ласковый шепот
Прими, дорогая, прими.
У светлого моря прозрачных плесканий,
В слиянье двойной синевы,
Я вдруг отошел от тревожных сознаний,
Влияний всемирной молвы.
И снова я мальчик, и жду, улыбаясь,
И грезы, и миги ловлю...
И весь отдаваясь, и сладко смущаясь,
Тебя беззащитно люблю.
У светлого моря, в сиянье безбрежном,
Где шелестно ласков прибой, -
Так сладко, так сладко быть робким и нежным,
Застенчиво-нежным с тобой.
Ушедший
Проходите, женщины, проходите мимо.
Не маните ласками говорящих глаз.
Чуждо мне, ушедшему, что было так любимо.
Проходите мимо. Я не знаю вас.
Горе всем связавшим доверчивое счастье
С ласками обманщиц, с приветами любви!
Полюби бесстрастье, свет и самовластье.
Только в этом счастье. Только так живи.
Тени говорящие дрожавших и припавших,
Тянетесь вы медленно в темнеющую даль.
Было ль, было ль счастие в тех встречах отмелькавших?
Может быть и было. Теперь – одна печаль.
В дебрях беспролётных, в шелестах болотных
Ты навек погибнешь, если любишь их.
И я люблю тебя. И я к тебе прикован.
Так, как я жду тебя, так только счастья ждут.
Я знаю, - вся лазурь, вся беспредельность счастья,
Вся солнечность лучей, - в тебе заключена.
Поверив, тихо жду, усталый от ненастья.
Молитвам радостным внимает тишина.
Виктор (Виктор Бальтазар Эмиль) Гофман родился в Москве в семье фабриканта мебели. Закончил 3-ю московскую гимназию. Поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1909 г.
Стихи начал писать в раннем детстве. Первые публикации стихов поэта (в детских журналах «Светлячок», «Муравей», «Детское чтение») относятся ещё ко времени обучения в гимназии. В 1903 г. его стихи печатались в «Северных цветах». К тому времени Гофман был уже знаком с В. Брюсовым и . В 1905 г. вышел сборник стихов «Книга вступлений». Свой художественный метод Гофман называл «интимизмом». Он считал, что чем субъективнее художник, тем более ему подвластно понимание реальности.
Еще будучи студентом, Гофман занимался журналистикой, сотрудничал со многими московскими газетами и журналами («Русский голос», «Русский листок», «Москвич», «Искусство» и др.)
После окончания университета переехал в Петербург. Из-за материальных трудностей продолжал заниматься журналистикой, работал в газетах «Речь», «Слово», «Новом журнале для всех».
Весной 1911 г. уехал в заграничное путешествие. В августе этого же года, находясь в состоянии депрессии, покончил собой выстрелом из револьвера в номере парижского отеля.
В 1917 г. под редакцией В. Брюсова вышло двухтомное собрание сочинений В. Гофмана.
Когда порой томлюсь прибоями
Моей тоски
Жалею я, зачем с тобою мы
Не мотыльки?
Была б ты вся воздушно-белая,
Как вздохи грез,
Летала б вкрадчиво-несмелая,
Средь жарких роз.
Летать с тобой так соблазнительно
Среди цветов.
О, как нежна, как упоительна
Жизнь мотыльков.
1902
| У ОЗАРЕННОГО ОКОНЦА |
Как прежде ярко светит солнце
Среди сквозящих облаков.
Озарено твое оконце
Созвучной радугой цветов.
Скользя по облачкам перистым,
Бежит испуганная тень.
И на лице твоем лучистом -
Изнемогающая лень.
Ах, я в любви своей не волен…
Меж нами - ласковый союз.
Безумно болен… и таюсь.
Ты вся, как этот свет и солнце,
Как эта ласковая тишь.
У озаренного оконца
Ты озаренная сидишь.
А я тревожен, я бессилен…
Во мне и стук, и свист, и стон.
Ты знаешь город - он так пылен?
Я им навек порабощен.
Ах, я в любви своей не волен…
Меж нами - ласковый союз.
Но ты не знаешь, что я болен,
Безумно болен… и таюсь.
Листья осенние желтого клена,
Кружитесь вы надо мной.
Где же наряд ваш, нежно-зеленый,
Вам подаренный весной?
Брошены вы, как цветы после бала,
Как после пира венки,
Словно поношенный хлам карнавала,
Изодранный весь на куски.
Вы отслужили, и вы уж не нужны,
Презренный, растоптанный сор,
Ваш жаркий багрянец, осенне-недужный,
Мой только радует взор.
Прах позабытый умолкшего пира,
Где разрушено все, разлито,
Листья, вы образ безумного мира,
Где не ценно, не вечно ничто.
Где все мгновенно и все - только средство
В цепи безумий звено,
Где и весна, и светлое детство
Гибели обречено.
Листья, вы будите скорбь без предела
Жаром своей желтизны,
Вы для меня ведь - любимое тело
Так рано умершей весны.
Как же могу я легко, как другие,
Вас растоптавши, пройти,
Желтые листья, листья сухие
На запыленном пути?
<1907>
| ВДВОЕМ |
Морозная ночь. На окне бриллианты.
Мерцает и блещет их снежная грань.
Душистые волосы, шпильки и банты
И тело сквозь тонкую грань.
Какое безумье, какая истома
К губам исступленным припасть,
И с них, как с волшебных краев водоема
Принять безысходную страсть!
Всё глуше, протяжней и все погребальней
Метельный напев за окном.
А здесь, в этой душной, натопленной спальне,
Какое безумье вдвоем!
Там шумная вьюга, там песни метели,
Подобные пению труб.
А здесь на горячем, на трепетном теле -
Следы обезумевших губ!
Закрыты глаза, обессилено тело,
Сползли волоса на виски.
Но груди как прежде упруги и белы,
Как граненый опал их соски.
Не надо теперь никаких достижений,
Ни истин, ни целей, ни битв.
Вся жизнь в этом ритме безумных движений -
Ему исступленье молитв!
Пусть мир сотрясают снега и метели
И громы архангельских труб.
Всё в этом горячем, порывистом теле
Открыто безумию губ.
<1908>
| ВЕСНЕ |
Весна, приди, не медли боле, -
Мое унынье глубоко, -
Моей усталой, тихой боли
Коснись ласкающе-легко.
Я изнемог от дум бессильных,
От исступления в борьбе,
Как узник из глубин могильных,
Тянусь я с трепетом к тебе.
Природы грустный отщепенец,
Восславивший природный ум,
Я жалкий пленник жалких пленниц -
Навек порабощенных дум…
О, если б быть опять ребенком,
Не думать горько ни о чем,
Тонуть в сиянье нежно-тонком
Под воскрешающим лучом.
Чтоб, затушив мятеж сознанья,
Приникнуть к шелестам травы,
Впивая тихое сиянье
Непостижимой синевы.
<1908>
«Метель» - произведение А.С. Пушкина, написанное в 1830 году. Многие работы великого классика наполнены особым смыслом, автор рассуждает о непостижимой игре Создателя. «Метель» не стала исключением. Работа полна философии и романтичных раздумий автора.
Идейность
Литературное направление повести - яркий юношеский сентиментализм. Центральная тема - взаимоотношения человека и Рока, как по воле судьбы меняются люди, их представление о жизни и стремления к идеалу.
Великого классика всегда интересовала роль случая, манила своими интригами и непредсказуемостью капризная судьба. Пушкин верил в Рок, предчувствуя, что и сам когда-то попадется в ловушку фатальных обстоятельств.
В повести «Метель» Александр Сергеевич специально рассматривает жизнь самых обычных людей. Они не отличаются особо блистательным умом, восхитительной внешностью, не склонны к геройским поступкам. У них нет гениальных задатков, особых талантов, невероятной силы духа.
История создания произведения
«Метель», написанная Пушкиным в 1830 году, стала заключительной работой цикла. Работал автор в Болдинском имении. Данный период его творчества часто называют «Болдинской осенью». Это один из самых активных периодов в жизни классика.
Исследователи полагают, что работа началась в 1829 году. Пушкин долго вынашивал идею, и приступил к реализации своих фантазий только в Болдино. Произведение было издано в 1831 году. Публикация была обнародована не под именем Пушкина. Причины до сих пор не ясны. Вероятнее всего русский классик опасался излишне агрессивной критики. Первая экранизация гениального творения Пушкина приходится на 1964 год.
Анализ произведения
Сюжетная линия

История начинается в далеком 1811 году. Дочь солидного помещика Марья Гавриловна страдает от пылких чувств к прапорщику Владимиру Николаевичу. Молодой мужчина не богат, поэтому родители юной девушки категорически против столь невыгодного союза.
Однако, движимые любовью, Мария и Владимир тайно видятся. После нескольких свиданий девушка соглашается на рисковую авантюру: обвенчаться и скрыться ото всех. В ночь, когда был запланирован побег, начинается сильная метель.
Мария первой покидает дом, направляясь в церквушку неподалеку. Следом за ней в назначенное место должен приехать и ее возлюбленный. Однако, из-за сильной пурги мужчина теряет ориентир, полностью сбиваясь с пути.
Марья ждет жениха в церквушке. В это время сюда заходит гусар Бурмин. Он решается подшутить над девушкой и выдает себя за ее избранника. Священник проводит обряд и только потом Мария с ужасом понимает, что обручилась совершенно с незнакомым человеком. Девушка немедленно возвращается домой, а Владимир, добравшись к церкви только поутру, узнает о том, что Марья стала женой другого.
Мария сильно переживает, находясь при смерти. Родителям удается отыскать Владимира. Они готовы дать согласие на брак, но Владимир отказывается. Он уезжает на войну, где и погибает.
После смерти отца Мария вместе с матерью переезжает в другое поместье. Там девушка знакомится с мужчиной. Он очень нравится ей. Это тот самый Бурмин.
Молодой человек признается девушке, что женат, рассказывая историю про венчание в метель. Девушка с удивлением рассказывает ему свою историю. Узнав всю правду, молодой гусар падает к ногам своей избранницы.
Герои повести

Марья - главный женский образ в повести «Метель». Семнадцатилетняя дворянка бледная и стройная, богатая и избалованная родителями. Девушка способна на сильные любовные переживания. Ей не чужд дух авантюризма и некая смелость. Мечтательная и сентиментальная дама готова пойти наперекор родителям и тайно обвенчаться с любимым человеком. Чувствительная и ранимая барышня, живущая счастливыми представлениями о взаимной любви, тяжело переживает расставание с Владимиром.
Бурмин - венный гусар, который по ошибке становится мужем Марьи. Он умный, но беспечный. Довольно насмешлив и импульсивный. Движимый пустым легкомыслием, он понимал, что сделает непростительный проступок, но все же выдает себя за жениха на тайном венчании.
Владимир - молодой прапорщик из бедного сословия. Он романтичный, преисполненный порывов, не всегда благоразумный и рассудительный. Ошибочное венчание Марьи он воспринимает, как самое тяжкое предательство. Считая, что девушка поступает так умышлено, покидает ее навсегда.
Композиция повести

Основа сюжета - курьезная женитьба. Для мужчины, это попытка повеселиться, для девушки - крах всех ее любовных надежд. Сюжет условно разделен на две линии:
- Марья и Владимир;
- Марья и Бурмин.
Пролог и эпилог отсутствуют, а сама повесть начинается малой экспозицией, где описываются будни поместья. Промежуточная кульминация - момент, когда Мария узнает о роковой ошибке в церквушке. В этот момент одна сюжетная линия плавно переходит в другую. Основная кульминация: по истечению многих лет Марья узнает в новом кавалере своего «старого» мужа.
Ключевой символ, который ми предопределяет ход событий - метель. Бушующая стихия изменила планы молодой пары обручиться ночью. С другой стороны непогода символизирует юность, полную страсти, безмятежности, лишенную рассудка и упорядоченности.
Повесть «Метель» - гениальное творение Пушкина. Работа отличается строгой завершенностью, соразмерностью, фактически математическими расчетами всех элементов композиции. Автор чисто на интуитивном уровне мог отыскать ту идеальную форму, посредством которой искусно выражал свой замысел.
Появляющиеся в зелени деревьев яркие пятна заставляют задуматься о беге времени, о неизбежности смены времен года, о том, что совсем скоро наступят холода. Стихотворение Виктора Гофмана «Метель» помогает представить зимние картины. Метель описана как хорошо знакомое, сильное и бесшабашное существо, сродни самому поэту. Лирический герой энергичный и отважный человек: он ждал метель, рад ей. Необузданная энергия пробуждает в нем дух соперничества, желание померяться силами со стихией и рождает остроту восприятия жизни.
Метель коварна: она начинается внезапно и очень быстро превращается в грозную силу. Мне сразу вспоминается пушкинская «Метель», которая чудесным образом разлучила Марью Гавриловну с одним мужчиной и соединила с другим, с которым девушка, вероятно, будет гораздо счастливее. И колдовская «Метель» Бориса Пастернака, и метущая «во все пределы» метель, которой, в его же «Зимней ночи», противостоит одинокая упорная свеча. В этом же ряду стоит стихотворение раннего Есенина «Поет зима - аукает...». А в рассказе С.Т. Аксакова «Буран» страшная двухдневная метель в оренбургской степи губит несколько человек, понадеявшихся на свои силы и недооценивших опасность. Красочное описание этого природного явления, восхищение его мощью, боязливое уважение – это то, что роднит и объединяет описания метелей у всех авторов. У Гофмана метель вызывает ассоциации также с пугачевским набегом в степи. Мысль об опасности оказаться в такую погоду в чистом поле, думаю, соединила образ метели и лихого казака-разбойника. Шуршание снега, завывание ветра ассоциируется с несущимся издалека свистом лихих людей. Автор, сравнивая метель с зимней оттепелью, делает выбор в пользу первой.
Этому служит композиция стихотворения: первая строфа рисует картину долгожданной метели, вторая сравнивает ее с надоевшей распутицей, в третьей поэт признается метели в любви, а в последней показывает ее влияние. Для метели поэт использует прием олицетворения и выбирает эпитеты, характеризующие ее необузданность так, как бы мы сказали о неуправляемом человеке: бесшабашная, дикая, шумная. Метафоры соответствующие: сила, безумие. Метель – гость. Поэт применяет звукозапись. Повторение ш, ж, з, с, передает вьюжные звуки. В последней строфе автор заражается энергией метели. Он чувствует, что их двое во всем мире. Она – бездна небытия. Но тем острее чувствуется желание жить и бороться, преодолевая преграды (бьющий в лицо царапающий снег предпоследней строфы). Потому-то мне и кажется, что это стихотворение не о метели, а о чем-то большем. О любви, например, внезапно налетевшей на человека в скучной и серой маяте будней. Или даже вообще о жизни.