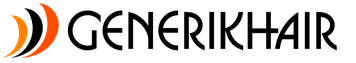На ком женился игорь головатенко баритон. Интервью с игорем головатенко
Музыкальный журналист Владимир Ойвин беседует с известным московским баритоном, солистом Большого театра Игорем Головатенко.
Владимир Ойвин: Ваш творческий путь совершенно необычен для певцов и инструменталистов. Обычно они, позже или раньше, стремятся к дирижированию, а вы начали с дирижирования, и потом пришли к вокалу. Что вас подвигло на это? Чем вас не удовлетворяло дирижирование?
Это очень сложный вопрос. На самом деле, если уточнить, я начал не с дирижирования, а до этого был ещё виолончелистом.
– Это школьное. Я имею в виду в институте.
– Серьёзная музыкантская профессиональная жизнь началась с дирижирования, но корни её лежат где-то очень глубоко. Очень сложно однозначно ответить на этот вопрос.
– Ответьте не однозначно.
– Я же начал заниматься пением, когда учился ещё в Московской консерватории. Поступал в аспирантуру, и у меня совершенно не было намерений что-то бросать, менять профессию.
– Зачем вы тогда занялись вокалом? Так просто, для удовольствия?
– Ради интереса.
– И с кем первым вы начали заниматься вокалом?
– В консерватории был у нас такой факультативный предмет, на который можно было ходить или не ходить. Но как-то все стали ходить, интересно было. Предмет назывался… что-то вроде «Методика работы с певцами для дирижёров».
Мы все там стали пробовать петь – у кого-то получалось, у кого-то не очень, но в принципе идея была такая, что всех нас хотели немножко «окунуть в вокал», чтобы мы попробовали, что это такое вообще – пение. Как певцы распеваются, почему они распеваются, какие распевки существуют и т. д. Дальше мы стали изучать какие-то произведения, на разных языках. Это было безумно интересно. Потом как-то пошло. Голос зазвучал. Стало ещё интереснее.
Потом мы встретились с Дмитрием Юрьевичем Вдовиным, стали заниматься серьёзно, профессионально.
– А кто вас привёл к Вдовину? Или это случай?
– Фактически меня привела к нему Светлана Григорьевна Нестеренко. Я пришёл к ней прослушаться – она заведовала кафедрой сольного пения в Гнесинском колледже, где работала моя первая учительница Мария Викторовна Рядчикова, я у неё работал в классе концертмейстером. Там я познакомился со Светланой Григорьевной, а она уже познакомила меня с Дмитрием Юрьевичем. Вот такая сложная цепочка.
– Судя по результатам работы Вдовина с Молодёжной оперной программой Большого театра, его педагогическая метода весьма эффективна.
– Думаю, что практически всё, что умею, я получил от него. Тут надо разделять. Я для себя разделяю. Заслуга Марии Викторовны (она и сейчас работает в Гнесинке) в том, что она меня ввела в профессию. Мы начали заниматься, когда я уже заканчивал консерваторию. Даже не технологией, а просто был интерес ко всему этому, и к тому, что у меня есть голос, что его надо развивать. Ещё тогда прозвучала мысль: зачем закапывать в землю талант, если он есть? Если есть голос, то почему бы не попробовать? Тогда ещё и речи не было о том, что я оставлю дирижирование, хотя на тот момент я как дирижёр не был профессионально востребован. У меня не было работы – и это, конечно, тоже сыграло определённую роль.
– Кто вас обучал азам профессии вокалиста?
– Все технологические вещи, практически вся вокальная техника – это вдовинское. Всё это мы делали очень долго.
– Сколько вам было лет, когда начали заниматься вокалом?
– 25 лет. Это уже на момент прихода к Вдовину.
– В некотором смысле это даже хорошо: вы делали этот шаг обдуманно.
– Тут есть и плюсы, и минусы. Минус – если бы я раньше начал, то большего и достиг бы сегодня, но судьба – такая вещь, что сложно сказать, что правильно. С другой стороны, очень хорошо, что у меня несколько серьёзных пластов образования, которые мне действительно очень помогают. И ориентироваться на сцене – в моменты, когда сложно сориентироваться.
– Вы же легко читаете партитуру.
– Да. В принципе я знаю, какие инструменты в данный момент звучат, кого слышать надо в данный момент, потому что тогда не нужно постоянно смотреть на дирижёра. Потому что я ухом чувствую, что происходит. Иногда это мешает. Бывают такие моменты, когда я даже непроизвольно смотрю профессиональным глазом на коллегу за пультом. Надо себя очень контролировать и сдерживать. Я никогда не афиширую свои дирижёрские познания.
– Вы же можете сказать дирижёру, что вам удобнее, например, петь на три четверти, а не на шесть восьмых.
– У меня был только один случай, когда я осмелился сказать дирижёру, на сколько надо дирижировать. Я просто не мог спеть фразу. Но я почти никогда себе этого не позволяю.
Если вижу, что мне тяжело, я начинаю петь по-другому. Я или иду вперёд, или осаживаю темп, но никогда не говорю словами: «Маэстро, здесь надо так!» Я не имею на это морального права, по крайней мере.
– Ну, можно сказать мягко: «А не попробовать ли так-то?»
– Это всегда опасно, потому что может задеть самолюбие дирижёра. Тем более, что сейчас я от этой профессии отошёл. Я стараюсь вести себя корректно – и даже если что-то знаю, не демонстрирую это.
– Расскажите о работе с Дмитрием Вдовиным.
– Это было потрясающе. Я помню, как пришёл к нему в первый раз, спел, по-моему, сцену смерти Родриго из «Дона Карлоса» Верди. С тех пор мы начали заниматься. Произошло очень много интересного.
Педагог он крайне требовательный, и без этого главного качества не было бы ничего. Даже на уроке он всегда стремится достичь максимального результата. Не то, чтобы все пели громче и громче. Если он слышит какие-то ошибки – чтобы они были максимально исправлены. Если человек что-то не то делает, то цель урока – эту ошибку исправить.
Уникальность его слуха в том, что он слышит в голосе то неправильное, что через несколько лет может разрушить голос. Но для непосвящённого это буквально неразличимые миллиметры.
– Он жёстко ведёт урок – или наоборот, как-то мягко?
– Я бы не сказал, что прямо жёстко, но требовательно. По-разному. Единственное, чего он не переносит, - лени, невнимания и невыученного текста. Для меня главное – что он в первую очередь музыкант. Он исходит из сути музыки. Если есть какая-то фраза, которую нужно спеть именно так, то он будет этого добиваться. Добиваться каких то конкретных музыкантских действий. Для него вокальная техника важна не как самоцель, а как средство того, чтобы выражать музыкальную мысль. Это самое главное, к чему стремишься на его уроках.
– Как он работал с вами над дикцией? Такая дикция, как у вас, – редкий случай. У вас трепетное отношение к слову.
– Это тоже от него. Он всё время нам повторял и повторяет, что необходимо учить языки, и для того, чтобы общаться, и, в первую очередь, для того, чтобы петь на этих языках и понимать, что поёшь. Очень интересно наблюдать, когда приходят новые студенты, – я же у него в классе год или полтора работал концертмейстером; официально моя трудовая книжка лежала в Академии хорового искусства. Мы параллельно занимались, и я работал.
Это был очень интересный процесс, потому что я целый день сидел, играл, приходили разные люди – и вот, например, приходит человек, который не знает, о чём ария. Или не знает перевода. Это сразу слышно. Человек может послушать запись и спеть что-то копируя, но он никогда не сможет наполнить музыкальную фразу смыслом, если он не знает, о чём поёт.
Были забавные случаи. Если разучивается новое произведение, Дмитрий Юрьевич всегда требует, чтобы оно было дословно переведено, чтобы ты мог пересказать, о чём это. Важно знать не только перевод, но в целом контекст. Если это ария, то в каком месте оперы она находится, кто к кому обращается. Эта работа, несмотря на её рутинность, необходима в учебном процессе. А дикция очень важна на любом языке. Есть нюансы произношения в итальянском, французском языках…
– Для певца три языка главные: итальянский, немецкий и французский.
– В принципе да. Ещё и русский, конечно. Несмотря на то, что он родной, в нём тоже есть нюансы. Например, двойные согласные, которых в нашем языке очень много, но которыми почему-то манкируют, и от этого страдает текст. Невозможно представить романсы Чайковского с плохой дикцией. Это будет ужасно!
Самое главное, что я должен сказать про педагогический образ Вдовина, – что у него всегда комплексный индивидуальный подход. Он настолько потрясающе слышит сам голос и его индивидуальность, что у него никогда нет «общего» подхода. К каждому студенту, к каждому голосу он всегда выбирает тот единственный принцип, который принадлежит именно этому голосу, именно этому человеку. Для него это очень важно. Он всегда слышит в комплексе. Нет такого, чтобы он занимался только дикцией или только техникой. Если речь идёт о технике – как спеть ту или иную верхнюю ноту, то это всегда привязано ко всей музыкальной фразе в контексте. Это, мне кажется, самый потрясающий момент.
– С чем связан ваш дебют на оперной сцене?
– Если вы имеете в виду самую первую партию, это был Марулло из «Риголетто» в Новой Опере. У меня тогда было два дебюта с перерывом в неделю. Потом я спел в «Волшебной флейте» – там есть партия жреца-оратора, где у него разговор с Тамино. Две странички текста. Там только речитатив. Потом, уже в 2010, году я спел Онегина, потом Роберта из «Иоланты», потом стал петь серьёзные партии.
– Почему вы, занимаясь с Вдовиным, не попали к нему в Молодёжную оперную программу Большого театра?
– Потому что мы уже очень долго занимались и ни он для меня не видел этой необходимости, ни я. Мы прекрасно общаемся, до сих пор занимаемся, и каждый раз, когда я готовлю новую партию, я всегда иду к нему и знаю, что он найдёт для меня время. На самом деле необходимости быть именно в молодёжной программе не было; и потом – всё-таки на тот момент я уже был немного староват.
– У певцов возраст – понятие относительное.
– Но, тем не менее – зачем перекрывать дорогу другим, когда у меня и так есть возможность общаться с профессором!
– За этот период вы спели довольно много, что бы вы назвали в числе своих любимых партий?
– Наверно, преимущественно, это всё-таки Верди. Что самое любимое – трудно сказать, таких партий несколько. Из прочих, что я пел, – конечно, роль Онегина, которую я много раз исполнял; но её каждый раз можно представить как-то по-новому, найти какие-то новые краски. Конечно, это Фигаро в «Севильском цирюльнике»; это совершенно другой мир, другой стиль.
– Скороговорки?
– Это Бомарше! Галантный век, галантный стиль. Потом, конечно, «Дон Карлос» и «Трубадур», хотя «Трубадур» гораздо труднее, и я не так много его пел. А вот «Дон Карлос» и, конечно, Жермон в «Травиате» – это мои самые любимые. Партия Жермона изумительна, и написана она с огромным мастерством, с огромным знанием вокальной техники.
– Кстати, как вы поёте эту партию? Во втором акте в ней обычно купируется огромный кусок.
– У нас он тоже купирован.
– Почему? Купюра великолепная, очень красивая и не такая сложная!
 Игорь Головатенко – Жермон. Спектакль театра “Новая опера”. Фото – Даниил Кочетков
Игорь Головатенко – Жермон. Спектакль театра “Новая опера”. Фото – Даниил Кочетков
– Один раз я эту купюру пел в Германии, в концертном исполнении, и мы там пели всё. Я не могу вам объяснить, почему её сокращают. Когда в Большом дирижёром-постановщиком был Лоран Кампеллоне, он хотел вообще сделать весь спектакль без купюр, чтобы было всё, как написано у Верди: по два раза «Addio del passato», два раза кабалетта у Жоржа Жермона и т. д.
Первые несколько спевок прошли безумно интересно, потому что мы находили совершенно новые краски, новые смыслы в этих повторах, но потом режиссёр Франческа Замбелло посчитала, что это скучновато. Вообще, я убежден, что любое музыкальное произведение, тем более опера, всегда теряет часть своего смысла от подобного «хирургического вмешательства».
– Есть запись «Травиаты» со спектакля Deutsche Oper 1968 года с Лорином Маазелем за пультом, в главных ролях Пилар Лоренгар (Виолетта), Джакомо Аррагель (Альфред) и Дитрих Фишер-Дискау (Жорж Жермон). В этой записи я впервые обнаружил, что в сцене Альфреда и Жоржа Жермона у отца есть большой фрагмент – кабалетта, которая почти всегда опускается.
– Многие считают, что эта музыка похожа на ту, что была в арии. Это, так сказать, «официальная версия». Конечно, музыка изумительная – он же продолжает убеждать сына другими словами, смягчает тон. До этого там просто был крик и потом, уже после кабалетты, более логичен взрыв, который происходит. Но, как говорится, хозяин – барин. Кто ставит, тот и режет – мы здесь ничего сделать не можем.
И ещё раз я спел эту арию полностью, когда в Новой Опере в прошлом году на Крещенском фестивале была исполнена концертная «Травиата» без купюр. Там дирижировал Александр Самуил, пели Люба Петрова, Гоша Васильев – был хороший состав, и мы все спели всё как есть, с кабалеттами.
– Что из нынешнего активного репертуара вам наболее интересно?
– Да всё интересно! Мне как-то везёт: я не пою те партии, которые мне мало интересны. Я вот недавно ездил в Ирландию – там была изумительная «Саломея» французского композитора Антуана Мариотта. Когда мне прислали ноты, я был потрясён – это совершенно нельзя сравнивать с Рихардом Штраусом (хотя обе оперы были написаны почти одновременно, и у них там было даже сражение за авторские права на пьесу Уайльда). Музыка очень интересная, чем-то по стилю напоминает Массне.
Потом у меня был дебют в Буэнос-Айресе в легендарном театре «Колон», где я пел Шарплеса в «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Это тоже было безумно интересно, потому что после этого я пел здесь же «Богему». Если 2013 год для меня был годом Верди (я спел восемь вердиевских партий за сезон), то 2014 год – год Пуччини. Я спел Шарплесса, Марселя. Кстати, этот год благодаря Сохиеву стал очень интересным потому, что мы делали «Орлеанскую деву» Чайковского и «Богему».
– Ваша партия в «Орлеанской деве» была одной из наиболее интересных.
– Была проделана колоссальная работа.
– Мне не понравилась исполнительница заглавной партии Анна Смирнова. Она резко звучала на верхах, просто повизгивала – это не её партия
 Игорь Головатенко и Анна Смирнова. Концертное исполнение оперы Чайковского “Орлеанская дева” в Большом театре. Фото – Дамир Юсупов
Игорь Головатенко и Анна Смирнова. Концертное исполнение оперы Чайковского “Орлеанская дева” в Большом театре. Фото – Дамир Юсупов
– Не стану спорить – всё-таки это экстремальная, зверская партия. Мне кажется, нет ничего труднее ни у Чайковского, ни вообще в русском репертуаре. И потом: надо учесть тот факт, что в подготовительном периоде она практически каждый день много пела, и видимо, к спектаклю подустала, особенно ко второму (хотя мне казалось, что второй был лучше, чем первый). Может быть, она волновалась.
Во всякой случае, «Орлеанская дева», потом «Богема» в январе и потом ещё «Травиата», которой Туган Таймуразович тоже сейчас дирижировал, – это для меня очень интересные были работы, и я очень рад, что во главе Большого театра - такой замечательный, талантливый дирижёр.
– Немного о чистой вокальной технике. Мне особо понравился у вас цикл Пуленка «Озорные песни» в концерте 27 января – тем, что он показал ваш голос во всех диапазонах.
– Там очень трудно петь, потому что очень большой «разброс тесситуры», так сказать.
– Такой разброс от низов до верхов показал, что у вас необычайно ровный голос при переходе от регистра к регистру, без швов – что бывает крайне редко. У вас это естественный голос – или вы над этим работали?
– Конечно, мы над этим работали, потому что хотя голос и даётся от природы, но его надо обрабатывать. Любой голос, хотя бы даже потому, что в принципе пение - совершенно неестественный для организма процесс. А уж если у голоса есть от природы какие-то недостатки или изъяны, то нужно работать, чтобы их сгладить.
– Много пришлось работать – или эта ровность от природы?
– Если не вдаваться в детали, работать пришлось очень много потому, что на самом деле голос ведь тоже меняется в процессе пения – постепенно крепнет дыхание, начинают работать какие-то мышцы, о существовании которых мы в обычной жизни не подозреваем. Допустим, чего-то добились, а потом голос изменился, и приходится делать заново. Это такой процесс, который не прекращается. До сих пор приходится что-то корректировать в силу каких-то причин. Допустим, другой репертуар – нельзя ведь одним и тем же голосом, одним и тем же звуком петь Родриго в «Доне Карлосе» – и Фигаро, или Онегина. Это совершенно разные вещи, которые надо корректировать.
Вот мы для «Богемы» занимались, чтобы звук был более собранный, более компактный, нельзя петь тем же звуком, которым поёшь в «Трубадуре». Там он должен быть более тёмный, более гомогенный, а в «Богеме» вообще такого пения нет, бесконечной кантилены.
– Цикл Пуленка вы исполняли впервые?
– Да, я мечтал спеть этот цикл, наверное, лет пять. Первый раз его пел и надеюсь, что далеко не последний, мы его будем повторять. Это будет практически та же программа (может быть, без сарсуэл).
– Программа огромная и без них.
– Над Пуленком я работал много, потому что его невозможно спеть, так сказать, «с налёта» – над ним надо очень много работать. Там много мелких деталей, которые надо отрабатывать голосом, потому что можно выучить текст, но так просто не споёшь – там сложнейшие переходы; и песни стилистически очень разные.
– Да, от хулиганства первых песен до молитвы. А последняя, «Серенада», совершенно отличается по стилю.
– Это ещё перевод названия цикла сглажен, а буквально звучит «Похабные песни». Там весьма скабрёзное содержание. Гениальность этой музыки в том, что там тексты – сравнимые с текстами анекдотов. Гениальность Пуленка – что он эти тексты совместил с потрясающе чистой и возвышенной музыкой. Я уже не говорю про чистоту стиля – с композиторской точки зрения там написано всё потрясающе. Там вообще не к чему придраться. Форма вся выстроена очень точно.
– Вы тоже выстраиваете форму очень точно.
– Мы вдвоём с Сибирцевым её выстраиваем. Конечно, этим надо заниматься.
– Хотя к Сибирцеву у меня есть свои претензии – он немного «тянул одеяло на себя», громковато играл в некоторых местах.
– Может быть, не стану спорить. Эту площадку в фойе я люблю, там есть традиция. Но с акустикой есть… я бы не сказал проблемы, но некоторые нюансы, детали, которые сложно учитывать. Там площадка сложная, неоднозначная.
– Вы поёте на многих сценах на Западе, но ещё не пели на самых-самых.
– До них ещё надо дорасти. Вы же знаете, что на самом деле, конечно, мы все туда стремимся, но мой путь очень постепенный. Да и нервы, которые связаны с преждевременными выступлениями на этих сценах, могут привести к каким-то последствиям – как, допустим, у меня была история с Риголетто: я был психологически не готов к этой возрастной партии. Это было, я считаю, вполне нормально для того уровня, на котором я находился.
– А что это была за «история»?
– Где-то в ноябре 2012 года мне позвонил мой итальянский агент - я в это время пел «Бал-маскарад» и «Корсара» Верди в Италии - и предложил спеть Риголетто в Савоне летом 2013 года. Я сначала категорически отказался, но он продолжал меня уговаривать, и я в конце концов согласился.
Доводы моего агента, впрочем, были разумными: необходимость иметь в своём репертуаре такую роль, как Риголетто и, соответственно, возможность дебютировать в наиболее благоприятной атмосфере. Это постановка в маленьком театре (даже не в самом театре, а на открытой площадке в старинной крепости); всего два спектакля, весьма краткий репетиционный процесс – около двух недель (большая опасность всегда в том, что даже если ты можешь спеть партию целиком, с оркестром и прочее, то выдержать полный репетиционный процесс постановки, которая может длиться месяц и более, подчас очень сложно даже для опытных певцов); итальянский оркестр, который уважает и любит певцов и аккомпанирует крайне деликатно (в отличие, к сожалению, от большинства отечественных коллективов).
Короче говоря, я поддался на уговоры; а когда узнал, что режиссёром будет великий итальянский баритон Роландо Панераи, тут и уговаривать меня особенно не пришлось. Вообще надо сказать, что в тот раз много было интересных совпадений - юбилейный год Верди, юбилейный год Тито Гобби (который был величайшим Риголетто ХХ столетия) - сто лет со дня рождения. Мне несказанно повезло: на первом спектакле присутствовала Рената Скотто, а на втором - Лучана Серра. Я всё это к тому, что, конечно, дебютировать в такой обстановке, окруженным такими великими певцами - большой подарок судьбы.
Конечно, дебют на большой сцене, в большом театре всегда связан с дополнительным стрессом и может нанести непоправимый вред, если певец к этому не готов, поэтому мне повезло, что многие партии я впервые спел в Италии в небольших театрах. «Бал-маскарад» и «Риголетто» – из их числа. Однако, попробовав Риголетто, я всё же решил эту партию пока не петь - слишком уж она сложна и требует, конечно, известного возраста. Надо признаться, что в Савоне был скорее удачный эксперимент, показавший, что я смогу это делать, но со временем. Думаю, лет до сорока можно жить спокойно, а там посмотрим.
Кроме того, сезон 2012/13 был вообще крайне богат на события и дебюты, я спел за сезон восемь (!) новых вердиевских ролей, включая Риголетто, Ренато, Амонасро, Графа ди Луна и Родриго. Полагаю, что я не мог бы отпраздновать двухсотлетний юбилей великого Верди с большей пышностью.
– Вы были тогда ещё слишком молоды.
– Дмитрий Юрьевич меня благословил на это: езжай и пой. Ещё бы, если режиссёр – Роландо Панераи!
– Я помню какой он был баритон.
– Получилось, будто он тоже меня благословил. Было чувство передачи эстафеты от поколения к поколению. Тем более, что потом выяснилось, что мы родились в один день.
– Сколько ему лет?
– В этом году исполнилось 90 лет. У него потрясающие записи с Караяном. Когда я готовил «Богему», слушал очень много записей – практически всё, что мог найти. Мой любимый Марсель – Панераи, могу в этом признаться.
– А кто любимый Жорж Жермон?
– Трудно сказать, потому что они все потрясающие: Бастианини, Каппуччилли, Манугуэрра, Брузон… А из наших, наверно, всё-таки Павел Герасимович Лисициан.
– Я именно этого ответа и ждал. Я считаю, что Лисициан был певцом мирового уровня.
– Я про него должен особо сказать, потому что когда я был еще маленький, у меня были пластинки дома, и я их всё время слушал. Была одна пластинка Лисициана, где он пел романсы Чайковского, а другая, где была с ним «Аида» из Большого театра. Запись была достаточно старая, но он там пел просто потрясающе, по-русски, но как он пел! И ещё одна, «Садко», где он пел Веденецкого гостя, и у меня в ушах пение его засело ещё с тех пор.
– А у меня засело в памяти другое. Была трансляция в 1956 году (ещё на телевизоре КВН-49 с крохотным экраном и линзой) «Травиаты» из Большого театра, где пел Павел Герасимович, а Альфреда – американский тенор Джан Пирс. Мне было четырнадцать лет, я слушал трансляцию вместе с отцом. Он слушал-слушал, а потом заметил: «А Лисициан-то гостя перепел!» Я тогда мало что понимал (а отец не был музыкантом, но у него был прекрасный слух). С тех пор я запомнил это имя и стал за ним следить. Если бы Павел Лисициан жил в другие времена, он, конечно, стал бы звездой мирового класса.
– К сожалению, это беда всего поколения, которое вынуждено было сидеть за «железным занавесом», но зато какие певцы у нас были, просто начать перечислять эти имена.
– Их записи мы слушаем на русском языке. Как вы относитесь к пению не на языке оригинала?
– Ну как я могу относиться… Понимаете, тут медаль с двумя сторонами. С одной стороны, я обожал эту Аиду на русском языке, запилил её до дыр и мне очень нравилось. С другой стороны (это я потом уже осознал, когда стал изучать итальянский язык и итальянскую оперу), конечно, опера в стилистическом отношении очень много теряет.
Какие-то вещи просто невозможно перевести. В операх Россини либретто содержит огромное число идиом. Например, в «Севильском цирюльнике», в русском клавире, когда Фигаро приходит к Розине и говорит ей: «mangerem dei confetti», что в дословном переводе означает «будем есть конфеты», а итальянская идиома переводится как «скоро будет свадьба», и таких случаев много.
– Грамотность переводчика?
– Да, но кроме того, какие-то вещи перевести просто невозможно. Языки настолько разные, что в русском языке вся оригинальная игра слов, все шутки теряют свою подвижность, прелесть языка. К сожалению, это так.
– Какие-то вещи, наверно, всё же можно петь в переводе?
– Конечно. В English National Opera всё поют по-английски, и прекрасно. Конечно, что-то можно петь; но тут вопрос, во-первых, в качестве перевода. У нас есть прекрасные переводы опер Вагнера, сделанные Виктором Коломийцовым – и «Тристан», и «Кольцо», почти все оперы Вагнера. И эти переводы, если вы возьмете подстрочник, практически совпадают, но при этом соблюдено всё: и ритмичность, и аллитерации. Это редчайший случай – но человек очень хорошо знал немецкий язык и владел поэтическим ремеслом.
– Важно, чтоб он владел ещё и музыкальным слухом.
– Тут нужен такой комплекс, как Пастернак, переводивший Шекспира.
– Ну, не знаю… Пастернак был слишком Пастернак. Его переводы больше интересны как поэзия, чем как перевод.
– Тем не менее, я хочу показать сам принцип. С одной стороны, я не хочу осуждать эпоху, историю – время было такое, да и в XIX веке все пели на языке своей страны. Поэтому Верди переделывал «Сицилийскую вечерню», которая прекрасно была написана по-французски. Ему пришлось переделывать её на итальянский язык и практически изуродовать оперу, которая очень много потеряла. Это, кстати, яркий пример. Я это знаю, потому что мне пришлось эту оперу петь и в том, и другом варианте, и я понял для себя, что по-французски её петь… не то чтобы удобней, но она как-то… льётся более органично. А в итальянской версии (при том, что итальянский – его родной язык!) уже не то.
С «Доном Карлосом» сложнее, потому что я не знаю французской версии. Я её не пел, хотя по-итальянски мне петь достаточно удобно.
– Как у вас складываются отношения с оперными режиссёрами?
– Я очень не люблю модное нынче словцо «режопера» – оно всегда мне как-то режет слух, но я понимаю, что сейчас сложилась ситуация, когда, с одной стороны, существует режиссёрская опера, с другой стороны – дирижёрская или музыкальная опера. Конечно, это противоестественное, варварское разделение одного целого. Если не устраивает режиссура в принципе, тогда что – концертное исполнение?
Я достаточно много пел концертных исполнений и могу сказать: это другая крайность. Как вы называете, «режопера» в своём каком-то пике – это одна крайность. Когда, например, «Евгений Онегин» в пиджаках с пистолетами, условно говоря, или, с другой стороны, концертное исполнение, где непонятно, кто кому кем приходится. Это две крайности, и нужно стремиться к золотой середине.
– Бывает концертное исполнение с элементами игры. Сейчас столько оперных театров, что талантливых режиссёров не хватает. Их вообще мало, а остальные в основном озабочены не тем, чем мы с вами. Им надо сделать «не так, как было». У многих из них это, к сожалению, самоцель.
– Вы правы, это действительно происходит от того, что кому-то нужно самоутвердиться, показать собственное «я», а не то, что написал композитор. Все эти модные веяния начались в Байройте где-то полвека назад. Это парадоксально, поскольку именно Вагнер завещал исполнять свои оперы только так, как он написал, и никак иначе. В его партитурах даже выписан кое-где свет и удивительно, что именно там при наследниках Вагнера всё это началось. И в наши дни это получило уже тотальное распространение.
– Надо всё-таки прийти к какому-то выводу: что важнее? С моей точки зрения, опера – это музыкальный жанр и, приоритетны должны быть музыка и текст, а то, как одеты и прочее должно быть вторичным, но чтобы это не мешало музыке. Самое главное в режиссуре – мешает она музыке или нет.
– Тут много нюансов. Возьмите, например, того же злосчастного «Евгения Онегина». Я, как человек, воспитанный на русской литературе, в любви к нашей истории, к быту, не могу себе это представить ни в каком другом контексте, кроме как в пушкинском. Я не могу представить, например, «Богему» в каком-то другом контексте, потому что это достаточно сложно, поскольку там весь текст либретто пронизан бытовыми деталями, вплоть до посуды.
– А дьявол, как известно, кроется в деталях.
– Ну да! Вы же не можете всё это (любимое словечко Достоевского) похерить, исключить. Если вы идёте на то, чтобы своё какое-то вИдение с пистолетами устроить, вы же не можете это всё куда-то убрать. Тогда вы берёте на себя смелость ставить немножко другую оперу.
Другое дело, что иногда, например, такая штука как «Макбет», может быть перенесена в другое время. Там всё идёт не от конкретной исторической действительности, а от идеи самой драмы. Шекспировские пьесы вначале шли вообще без декораций, но это немножко другая история.
В Новой Опере «Онегин» идёт в постановке Арцибашева, которую я очень люблю. Там тоже нет декораций. Там вообще ничего нет – только два стула на сцене. Тем не менее, я считаю, это в своем роде гениальная постановка! Этот аскетизм позволяет прочувствовать, сколько там внутри может быть нюансов.
– Но в этой постановке принимал участие ещё Евгений Колобов, а художником был Сергей Бархин.
– Это вообще первая постановка театра. Ещё 1996 года. Сколько певцов прошло через эту постановку – и прекрасных певцов!
– Но это исключение.
– А знаете, почему это исключение? Потому что ставили очень талантливые люди, для которых самое важное было не собственное «я» показать…
– …а единство музыки и сцены. Из тех режиссёров, с кем вы сталкивались, кто вам больше всех понравился в плане соединения режиссуры с музыкой?
– Я мало работал с режиссёрами именно при постановках. У меня было очень много вводов. Например, в той же Новой Опере.
Из недавних постановок я не могу не сказать про «Дона Карлоса». Несмотря на то, что постановку Эдриана Ноубла не критиковал только ленивый, она сделана с огромной любовью к Верди. Это первый режиссёр в моём певческом опыте, который предложил спеть оперу без купюр. У всех глаза на лоб полезли! Обычно, первое, что делает режиссёр, он начинает…
– …кромсать либретто!
 Дмитрий Белосельский (король Филипп) и Игорь Головатенко (Родриго) в постановке оперы Верди “Дон Карлос” в Большом театре. Фото – Дамир Юсупов
Дмитрий Белосельский (король Филипп) и Игорь Головатенко (Родриго) в постановке оперы Верди “Дон Карлос” в Большом театре. Фото – Дамир Юсупов
– Это четырёхактная версия. Купюры кое-какие там есть, но незначительные – где-то в хоровой сцене, но это не имеет значения. Всё, даже романс Родриго, который обычно режется пополам, он его дал весь и т. д. Там очень много таких моментов. При том, что эта постановка не хватает звёзд с неба, каких-то откровений там нет, но она сделана с большим уважением и к певцам, и композитору, и к Шиллеру – которого, я думаю, он знает неплохо. Там, может быть, не так видна историческая эпоха…
– Но это же не учебник истории!
– Да, не учебник истории. Следование букве всегда приводит к трагическим последствиям.
– Следовать нужно духу?
– Да, духу. Надо видеть что-то за текстом. За деревьями видеть лес. Из недавнего времени был замечательный опыт работы с Жагарсом, в Рижской опере.
– Вот кого я не люблю.
– Многие его не любят, что же делать. У меня был единственный случай работы с ним.
– Что вы пели?
– «Трубадур». И он меня убедил в своей правоте, хотя мне трудно было принять перенос действия из той эпохи в 1919 год. Там латышские стрелки, и всё такое. Но меня убедила сама его режиссёрская работа с артистом. Он очень много внимания уделяет непосредственно пластике. Живой пластике, чтобы люди не казались статуями на сцене.
– Я видел его постановку «Евгения Онегина» на гастролях в Москве. Мне она резко не понравилась.
– Я участвовал в этом «Онегине», один раз вводился, именно в рижском.
– Я редко беру интервью не у исполнителей классической музыки, но так получилось, что я беседовал с артистом и режиссёром Театра на Малой Бронной недавно умершим Львом Дуровым, и он заметил: «Сейчас в режиссуре, если никто не пробежит по сцене с голой задницей, считается несовременным». Он как в воду глядел. У Жагарса во время сна Татьяны появляется голый мужчина в медвежьей шкуре. Зачем это нужно?
– Я могу сказать, что в «Трубадуре» ничего этого нет, и слава Богу! Я просто говорю про свои впечатления из недавнего времени, потому что я не так много работал именно с театральными режиссёрами. Работа с Панераи в том же «Риголетто» – это не совсем режиссёрская работа. Он великий певец и музыкант, у него громадный сценический опыт. Он мне дал много очень ценных советов по шутовскому образу – что надо делать. Но именно как музыкант, как певец, изнутри.
– Недавняя постановка «Риголетто» в Большом театре мне не понравилась.
– Я её не видел, к сожалению.
– Шут и клоун – это не одно и то же. В Большом сейчас Риголетто – клоун, действие происходит в цирке. И непонятно, почему перед так называемым герцогом все заискивают. Шут – это человек, который может говорить правду правителю. Понятно, почему придворные так ненавидели Риголетто. Потому что он один мог говорить правду – и про них тоже. А тут совершенно непонятно, почему его ненавидят окружающие.
– Ну, это вы очень глубоко копнули для такой постановки, где, как вы говорите, бегают с голыми задницами.
– Тут, слава Богу, голых задниц нет. Зато вместо двора Герцога Мантуанского на сцене полуцирк-полубордель, который бывший герцог содержит.
– Сейчас, с сожалению, режиссёры так глубоко не копают. Хотя есть другие случаи. Про Жагарса я сказал, что он интересно и плодотворно работает с артистами в области пластики. И постановка серьёзная – без всей этой мишуры. Есть ещё один режиссёр, который меня серьёзно потрясает – это Уго де Ана (Hugo de Ana).
– Откуда он?
– Он аргентинского происхождения.
– А где он ставит?
– Живёт он в Мадриде, а ставит в Южной Америке, Испании, Италии.
– Какие оперы он ставит?
– Первый раз я с ним работал в Палермо – он ставил «Бориса Годунова». Другой – в Буэнос-Айресе – «Мадам Баттерфляй».
– Вы что, Бориса пели?
– Нет, я пел Щелкалова и Рангони.
– Я спросил, потому что сейчас Лейферкус пел баритональный вариант.
– Есть вещи, которые я никогда не буду делать.
– Русский репертуар вообще штука сложная, для моего типа голоса не так много партий. А Борис - так далеко мои планы, к счастью, не заходят. Но эта постановка была сложна для меня тем, что я там пел две партии. Сперва пел Щелкалова, потом переодевался, перегримировывался, и через полчаса выходил и пел Рангони.
Об этом режиссёре надо особо сказать – потому что это человек эстетически потрясающе образованный. Он сам делает эскизы декораций, костюмов, свет.
– Всю сценографию делает сам?
– Он всё делает сам. Это не значит, что он сам делает декорации. У него есть ассистенты, конечно. Но главное – у него есть полная визуальная концепция спектакля, и это потрясающе!
– Это редкий случай.
– Это редчайший случай! Более того, когда я приехал на постановку «Мадам Баттерфляй» – я понял, что человек досконально изучил историю Японии того периода.
Ведь с пьесой, которую увидел Пуччини, интересная история. Эту пьесу, которая называется «Мадам Баттерфляй», написал Дэвид Беласко, был такой американский драматург и импресарио. А написана она, в свою очередь, по рассказу Джона Лютера Лонга, который был знаком с сыном японской женщины, послужившей прототипом Чио-Чио сан, т. е. он знал реального человека, мальчика, каким он был в опере.
Я прочитал оба эти произведения. К сожалению, переводов на русский язык нет, и мне пришлось читать на английском. Очень интересно. Там реплики самой Баттерфляй и Судзуки очень сложно было читать, потому что выписан японский акцент, так что половина слов непонятна. Тем не менее, получил впечатление, как будто прикоснулся к этой эпохе.
Всегда очень интересно, когда есть реальный прототип, и ты можешь что-то узнать об этом человеке. Соответственно, как-то можно и характер выстроить. Там и Шарплесс тоже обрисован немного подробнее. Суховато, правда, но интересно. Я это всё к тому, что мало того, что Уго все это изучил – вплоть до истории профессии гейши – но его работа была пропитана любовью к японской истории и культуре! Я не могу поручиться за точность воспроизведения каких-то деталей интерьера или одежды – но, по крайней мере, человек приложил к этому титанические усилия.
Он очень много работал с деталями, с реквизитом, и меня учил работать с реквизитом. Он говорил, что если у тебя есть очки или трость, то эти предметы обязательно должны работать. То есть – если ты пришёл в очках, то ты должен найти какие-то движения, чтобы было видно, что ты живёшь с этими очками. Я очки не ношу, мне трудно было это понять.
– Кстати о деталях. Если помните, в рижском «Евгении Онегине» Татьяна бегает по сцене с ноутбуком.
– Да, помню.
– Я не против. Но письмо пишет от руки! Одно из двух: или пиши письмо на ноутбуке или не бегай с ним по сцене.
– Это был мой дебют в рижской опере. Я поехал туда петь, и мало уделял внимания этим деталям. Постановка, так сказать, «изнутри» не очень меня раздражала. Я спокойно к этому относился. Более того, для ввода постановка была настолько сложна, что некогда было думать обо всём этом. Для меня самое главное было спеть.
Певец, который вводится в спектакль, всегда думает не о концептуальных вещах, а о том, как спеть. Понимание идей, заложенных в спектакле, приходит гораздо позже. Что делать, таков театральный процесс.
– Как вписаться?
– Да, как вписаться, чтобы не выпасть. Возвращаясь к Уго, для меня этот режиссёр - последний, с которым я работал на сегодняшний день. Он очень много мне дал, и он, конечно, большая личность.
– У вас есть в запасе предложения на западных сценах?
– Скоро я должен ехать в Глайндборн на фестиваль.
– Кто там сейчас главный? Много лет был Владимир Юровский.
– Он ушёл, но кто сейчас – не знаю.
– А что там будете петь?
– Там будет «Полиевкт» (Poliuto) Доницетти. Эта опера была чрезвычайно популярна в шестидесятые годы. Есть знаменитая запись из Ла Скала, где поют Каллас, Корелли и Бастианини. Там экстра-трудная партия для тенора.
– Там у всех трудные.
– У тенора особенно. Сейчас эта опера немного предана забвению, потому что вообще репертуар бельканто не в моде. Такие композиторы как Меркаданте, тот же Беллини, Доницетти ставятся не так много. Хотя у Доницетти семьдесят четыре оперы, только представьте!
– Беллини мой кумир. Для меня опера номер один – это «Норма».
– Ну конечно! Но и «Норма» сейчас тоже не так часто ставится. Посмотрите на сайтах театров – не найдёте.
– Я помню, в 1974 году приезжал Ла Скала; и Монсеррат Кабалье запела – это был вообще шок! Она стояла у задника перед условным кубистическим деревом, и когда она запела Casta Diva и потом стретту, я совершенно обомлел. Я представить себе не мог, что это может так звучать!
– У неё было фантастическое пиано, как ни у кого.
– Это было самое интересное исполнение, что я когда-либо слушал. Даже по сравнению с записью Каллас. Идеальный вокал.
– Их сложно сравнивать. Я никогда этим не занимался. У меня, например, был период, когда я просто умирал от Бастианини. Потом был период, когда я очень любил Гобби, потом период, когда я не мог оторваться от Манугуэрры – и так далее.
– Манугуэрру я совсем не знаю, хотя один друг мне о нём все уши прожужжал.
– Это потрясающий баритон! Такого совершенного легато нет ни у кого. У него всегда был небольшой такой носовой призвук, из-за которого его, может быть, не очень любили, хотя он сделал очень хорошую карьеру, пел везде, но был такой вот у него недостаток. Потрясающий красоты голос!
Потом был период, когда я очень любил Каппучилли. Очень сложно сравнивать кого-то с кем-то. Это неблагодарное занятие. Но в то время в небольших итальянских театрах очень много шли такие названия как «Мария ди Руденц» или «Роберто Деверё» Доницетти.
– Это малоизвестные оперы.
– Они сейчас вообще неизвестны. Эти названия никому ничего не говорят, но, тем не менее, у него масса опер (которые сейчас нигде не идут), на которых можно расти молодым певцам. «Линда ди Шамуни», «Мария ди Роан», «Джемма ди Верджи» например. Многие из этих театров, к сожалению, сейчас закрыты из-за финансового кризиса.
– Когда я сравниваю Доницеттти и Беллини, мне кажется что, Доницетти более тяжёл для пения. Беллини более органичен – он настолько чувствует природу вокала.
– Он не тяжёл, просто Доницетти уже ближе к Верди. Точно так же последние оперы Верди уже ближе к веризму.
– «Отелло», извините меня, это просто вагнерианская опера.
– «Отелло» – это вообще особая статья.
– Это моя любимая, кстати, опера у Верди. Там всё выстроено поперёк самого Верди.
– Ну, это, так сказать, улыбка гения. Тем не менее, это самый что ни на есть Верди.
– Самая лучшая постановка «Отелло», которую я когда-либо видел, была постановка Латвийского театра оперы и балета 1980 г. Режиссёр Ольгертс Шалконис, сценограф Эдгар Вардеунис. В том же году они этот спектакль привозили в Москву на гастроли, во время которых я его и видел. В нём сцена с каждым актом освобождалась от декораций и деталей…
– Интересно, интересно!
– …и к финалу оставалась пустая сцена в чёрных сукнах – и освещённая кровать в её центре. Это было здорово, и уже немолодой Карлис Зариньш пел Отелло так, как не все молодые споют.
– У них вообще всегда был очень сильный оперный театр. Сам театр небольшой, но у них и сейчас очень сильная труппа. Если вы почитаете, у них там «Лючия» идёт, «Трубадур», «Севильский цирюльник», «Евгений Онегин», «Аида», «Набукко», «Мадам Баттерфляй» – практически весь базовый оперный репертуар!
– Я особо не слежу, просто по гастролям в Москве оцениваю. Но ту постановку я запомнил на всю жизнь и считаю лучшей. Всё внимание сконцентрировано на финале, как лупа, которая концентрирует все лучи. Вот это режиссура, которая нужна.
– Вообще если возвращаться к режиссуре, это вопрос очень сложный. Потому что… так же, как вопрос о дирижёрах – это всегда вопрос личности. «Есть ли тебе что сказать?» – вопрос первостепенный, и ответ на него тоже сложно дать однозначный, потому что нет критериев. Какие критерии, как судить?
Есть режиссёры очень профессиональные, которые знают, как выстроить мизансцены, чтобы переходы, например, были музыкально обоснованы. Постановка вроде крепко сделана, но она не дышит. А бывает наоборот: у режиссёра есть потрясающая идея, но он не знает, какими средствами её воплотить, как это всё сделать. Поэтому тут очень всё сложно, неоднозначно. Никогда не знаешь, чем дело кончится.
Как вот в Неаполе, где меня заставили купаться в водичке. Идея у режиссера была такая, что у Онегина ледяное сердце, и что оно потом плавится под натиском чувств и где-то к сцене дуэли бассейн с водой наливали и там льдинки плавали. Ленский падал в воду и потом уже в финальной сцене Гремин – Дима Белосельский выкатывался на инвалидной коляске (без чего сейчас ни одна постановка не обходится), и я его возил. Сначала я его возил, потом Татьяна.
Роли менялись, а потом уже самая последняя сцена вся была в воде. Посередине стоял диван и мы там на этом диване, прости, Господи! Идея была такая сумасшедшая. Причём спорить было бесполезно.
– Было в вашей практике, когда режиссура настолько не нравилась, что вы отказывались петь?
– Нет, такого не было. Я не в том положении, чтобы отказываться от работы. Вот, например, в том же Неаполе мне очень не нравилась постановка. Я могу об этом смело сказать. Но режиссёр – весьма уважаемый человек, по-моему, пять раз эта постановка по Европе прошла. Он получил за неё очень солидную премию, и так далее. Если бы я сказал: «Извините, но мне это не нравится», то я бы уехал домой и пригласили бы другого.
– Это понятно, вы пока не можете себе этого позволить.
– Конечно, дело там не доходило до крайностей, никто не просил, слава Богу, оголяться, делать ещё что-то непотребное, но это было настолько далеко от Пушкина! Там от русской культуры не было вообще ничего. Какие-то стволы берёзовые сверху спускались – это был «типа лес», берёзовая роща и это всё. Больше никаких намёков на русскую оперу. Если бы это как-то соответствовало тому, что происходит в музыке! Но это не соответствовало ничему.
Понимаете, человек Пушкина не читал. Или читал, но не понял. Дело же не в том, что у него ледяное сердце. Там же совершенно не в этом дело, что потом оно растаяло и прочий бред. (Знаете, мне недавно рассказали, будто был на ЕГЭ такой вопрос: любил ли Онегин Татьяну? И варианты ответов: любил/не любил/не очень. Я бы этот ЕГЭ не сдал!)
– Что у вас в планах в Большом, что вы ещё не пели?
– Из нового, вы хотите сказать? Сейчас, по-моему, на будущий сезон планы не озвучивались. Сейчас я пою текущие спектакли. Единственно – ввёлся в «Богему». Я знаю, что будут постановки на будущий сезон, но пока не знаю, буду ли в них участвовать.
– С Новой Оперой вы продолжаете сотрудничать?
– Да, я продолжаю, потому что для себя понял, что мне очень сложно расстаться с этим театром: с одной стороны, я не так часто там пою (если посчитать количество спектаклей в год), а другой стороны я чувствую, что это мой дом.
– А именно на вас там ничего не собираются поставить?
– Нет, таких разговоров не было. А что можно для баритона поставить? Понимаете, о титульных ролях каких-то вердиевских партий – сейчас рано говорить. Тот же «Макбет» или «Симон Бокканегра» – это очень рано. И потом неизвестно, насколько вообще зал этого театра приспособлен к таким названиям. Нужно для каждой конкретной оперы смотреть, насколько это подходит.
– Они поставили «Тристана и Изольду».
– Сам не слушал, не знаю.
– Это было великолепно! Я с большим скепсисом отнёсся к этой идее, но это было здорово! И вообще, и Латам-Кёниг в частности.
– Он прекрасен. Замечательный музыкант.
– Последние работы, «Страсти по Матфею» были блистательно сделаны. За полтора месяца до этого приезжал Риллинг и дирижировал «Страстями по Матфею» в зале им. Чайковского. Так я могу сказать, что русские певцы не уступили немцам в «Страстях по Матфею». И это сделал Латам-Кёниг.
– Что касается Новой Оперы, я жалею только о двух вещах: что мне не довелось ни разу поработать с Колобовым, и второе – что мы не спели с Латам-Кёнигом ни одного спектакля. Это странно, но так получилось. Он тоже много ездит, и мы как-то с ним не пересеклись. У нас должен был быть контакт, когда шла постановка «Трубадура». Но я не смог участвовать в самой постановке. Я ввёлся потом, а он уже этим спектаклем не дирижировал. Я ему самому сказал: «Как же так, маэстро, мы уже столько лет ходим по одному и тому же театру и всё никак не споём вместе?» Это забавно.
– И «Король Рогер» Шимановского тоже очень здорово сделан в концертном исполнении. Я считаю, что когда здравой режиссёрской идеи нет, то лучше концертное исполнение с элементами театрализации.
– Вы правы, потому что действительно иногда хочется освободить оперу от режиссёрских штампов, которые, к сожалению, есть. Конечно, концертное исполнение это чистая музыка, чистое музицирование, но иногда тоже чего-то не хватает. Допустим, мы пели «Травиату» в концертном варианте, там как-то невозможно не общаться с партнером.
– Поэтому я и говорю, что какие-то элементы театра в концертном исполнении можно ввести.
– Это всё имеет право существовать.
– И тогда музыка главенствует.
– Я бы немножко по-другому сказал. Дело в том, что, конечно, музыка в опере главное, но то, о чём сейчас режиссёры очень часто забывают, извините, буду нескромен, что в опере самые главные это те, кто поёт. Потому что, согласитесь, всё-таки люди приходят в оперу послушать певцов. Если прекрасно играет оркестр, потрясающе поёт хор, замечательные костюмы, замечательная постановка, но певцы плохо поют, то кому эта опера нужна? Поэтому была другая эпоха, когда действительно певцы были первыми в опере, и это даже носило некоторые элементы перебора, чересчур.
Сейчас это стало с точностью до наоборот; и когда пишут критические статьи – и у нас, и на Западе, тенденция одна: пишется про постановку вот столько, про дирижёра столько – и фамилии певцов. А как пели – хорошо если напишут несколько строчек.
– Про певцов очень трудно писать. Ну, напишут – хорошо поёт, а какие-то детали очень трудно уловить.
– Конечно, это я шучу, но тенденция эта существует. Сколько постановок я спел – но все критические статьи, которые мне агент мой присылал, имели один и тот же вид, я уже сказал какой. Это носит тотальный характер.
– Латам-Кёниг очень здорово сделал и «Страсти», и «Короля Рогера». А тут я впервые услышал его в симфоническом концерте. Он аккомпанировал двум концертам: скрипичному концерту Элгара с Никитой Борисоглебским и Второму фортепианному концерту Чайковского с Лукасом Генюшасом с оркестром Новой Оперы в зале им. Чайковского.
– Второй концерт Чайковского очень красивый. Я особенно люблю вторую часть, где трио.
– Оркестр в таком великолепном состоянии!
– Когда дирижёр обладает серьёзным музыкантским авторитетом, они играют совсем по-другому. Я столько раз наблюдал это. Не хочу никого обижать, ни в коем случае, но – очень важно, кто стоит за пультом. Это всегда слышно.
– Сколько вам сейчас лет?
– 34 года.
– Конечно, ещё рано, но вы не думали, что придётся заняться педагогикой?
– Меня Дмитрий Юрьевич тоже спрашивал, не хочу ли я преподавать. Я ответил, что нет. Когда я смотрю, сколько он тратит нервов, сил, труда на всё это – я говорю, что я очень эгоистичный человек в этом плане. Я шучу, конечно. На самом деле сейчас, конечно, я об этом не думаю.
– Зря, и вот почему. Дело в том, что преподавание само вынуждает действующего педагога вербально формулировать задачу.
– Чтобы понять её самому.
– Вы что-то делаете интуитивно, а для ученика надо словами сформулировать. Это идеально и для инструменталиста, и дирижёра, и певца.
– На самом деле я сейчас живу в таком режиме, что времени на это не хватит, даже на одного ученика. Более того, я сейчас считаю себя морально не готовым. Если я почувствую, что я созрел, и у меня появится время… хотя я не уверен, что у меня будет больше свободного времени.
– Теперь о современной музыке. Кто для вас верхняя граница современного композитора – Шнитке или Денисов – или наоборот, Шёнберг? Каковы ваши взаимоотношения с камерным музицированием?
– По поводу современной музыки – я её очень люблю, но в вокальном плане я очень мало её пел. Один раз у меня был опыт. Это был проект от Большого театра, когда мы пели оперу «Вишнёвый сад» французского композитора Филиппа Фенелона. Это был замечательный, очень интересный опыт. Благодаря этому вся наша команда попала в Парижскую оперу, все там дебютировали. Что касается самой музыки, то она интересная, хотя это было очень трудно, потому что написана она в чрезвычайно современной манере.
А что касается самой современной музыки, я не очень хорошо знаю всё, что после Шнитке было. Я этим не занимался и не могу сказать, что у меня сейчас есть к этому какое-то стремление или интерес, потому что я сейчас живу в другом репертуаре.
– К Шнитке как относитесь?
– Я обожаю Шнитке, очень люблю, хотя не всё меня трогает. Второй Concerto Grosso я слушал в концерте в исполнении Наталии Григорьевны Гутман. Это было гениально. Я сам играл его виолончельную сонату – это потрясающая музыка. Его музыка к фильму Швейцера «Мёртвые души» гениальна. Есть вещи, которые мне очень близки, потому что я их пережил сам.
Сказать, что для меня на Шостаковиче закачивается музыка, мне сложно, потому что я многого не знаю. Конечно, Шостакович для меня – такой Эверест музыки ХХ века; это то, о чём я мечтал, когда занимался дирижированием. Шостаковича, к сожалению, ничего продирижировать не удалось.
А что касается камерной музыки, то я её очень люблю. Не всегда есть возможность этим заниматься, потому что оперный график плотный. Но это делать надо, потому что если всё время петь одного Верди, голос немного теряет гибкость.
– В камерной музыке должно быть совершенно другое звукоизвлечение.
– Звукоизвлечение может быть то же самое, просто краски надо другие искать. Камерная музыка требует немного других задач. Не такое всё плакатное.
– Звук тоже должен быть более компактным.
– Я по поводу термина «звукоизвлечение», потому что эмиссия голоса у тебя одна – какой голос у тебя есть, таким и поёшь. Ты можешь где-то чуть-чуть что-то убрать, где-то добавить. Потом у меня есть некоторые задумки, идеи, которые я хотел бы осуществить
– Что именно?
– Одну идею я уже осуществил. Была идея совместить в одном концерте французскую музыку и Тости. Вообще была отчаянная мечта спеть когда-нибудь Пуленка. А недавно мы с Семёном Борисовичем Скигиным в Доме музыки в Камерном зале спели «Прощание с Петербургом» Глинки.
– Я, к сожалению, не смог быть.
– И ещё потрясающий цикл французских романсов Чайковского – это вообще стал один из моих любимых циклов. Я его всё время пою. Один очень талантливый человек в оркестре Спивакова сделал замечательную оркестровку, и мы пели это с «Виртуозами Москвы» – у них сейчас юбилейный год. Я хочу этот цикл петь и дальше.
Есть у меня желание сделать отделение романсов Чайковского. Как-то не пел я его романсы в большом количестве. По одному пел, по два, по три, а не так, чтобы сделать отделение, или спеть какой-то опус. Есть у меня эта идея.
– Я вам заказываю «Для берегов отчизны дальней» Бородина. Это, по-моему, лучший русский романс. Его совершенно потрясающе исполнил Роберт Холл. Я его слушал несколько лет назад в Большом зале консерватории, где он пел программу русского романса. Спел так, что я написал в рецензии: «Спасибо Холлу за урок русского языка!» Никто из наших так не поёт на русском языке, как поёт Холл. Когда он спел «Для берегов отчизны дальней», я просто прослезился.
– Да, у меня тоже было подобное откровение, когда я слушал, как пели Мирелла Френи с Атлантовым «Пиковую даму». Есть запись спектакля из Венской оперы. Да, конечно, она поёт с небольшим акцентом. Но дело не в акценте, а в том, как у неё слово живёт. Она поняла связь слова и музыки, то, чего очень трудно достичь в музыке Чайковского. Связь между словом, легато и музыкальной линией. Это неимоверно трудно, потому что у Чайковского почему-то вроде иногда кажется, что нечего петь. Две-три ноты, а спеть невозможно. Это какие-то трансцендентальные сложности.
– Насколько вы знаете исполнение Роберта Холла?
– Не очень знаю. Надо послушать. Наверно, в Youtube есть.
– Он специально русский язык выучил, и он великолепен. Недавно у него был концерт в Камерном зале Дома музыки. Он пел уже после операции – у него был рак горла, и конечно там небольшие чисто вокальные потери были. Но в целом, по музыкальности это было великолепно. Он пел со Скигиным.
– Скигин, я вам должен сказать, потрясающий музыкант! Мне невероятно повезло, во-первых, с ним петь и, во вторых, общаться. И конечно, очень повезло Молодёжной оперной программе, что он к ним приехал. Он же сделал здесь цикл всех романсов Чайковского. И конечно, то, что ребята общаются с таким музыкантом, – это здорово!
Да, вспомнил, мы с вами про Шнитке говорили, у меня есть сборник его статей - там много интересного, например, о Прокофьеве. Я думаю, он гений – он как-то умел кратко формулировать.
– Я на всю жизнь запомнил его высказывание о Бахе: «Бах – это эпицентр музыки. К нему всё шло, и из него всё вышло». И ещё меня поразила его скромность. Я с ним познакомился после альтового концерта, это гениальный концерт. Я восхищался этим концертом, а Шнитке спросил: «Володя, а не кажется ли вам, что не настолько хорош сам этот концерт, насколько его сделал Юра Башмет?»
– Он по-своему был прав.
– Я ответил: «Я очень люблю Юру Башмета, но ваш концерт самоценен сам по себе, вне зависимости от исполнителя».
– Он всё-таки был первым исполнителем, а первый исполнитель снимает оболочку. Он тоже имеет право если не на авторство, то в какой-то мере на соавторство.
– Но понимаете, сказать так – это нужно иметь некоторую возможность правильной самооценки. Я ещё очень люблю его Восьмую симфонию. Про неё Шнитке сказал так: «Мне было позволено заглянуть туда, куда мало кому из живых разрешается заглядывать».
– Это он про клиническую смерть?
– Заглянуть за край.
– Согласитесь, что последние симфонии композиторов: Девятая Малера, Пятнадцатая Шостаковича, Парсифаль тоже последняя опера – такое впечатление, что человек уже там и это послание оттуда?
– Восьмая симфония Шнитке сродни Пятнадцатой Шостаковича. До неё моей любимой была Десятая, но когда появилась Пятнадцатая, она стала моей любимой. Там всё настолько просто, настолько прозрачно…
– Я Пятнадцатую очень люблю. Я даже по ней писал работу в консерватории. Каждую ноту практически знал. Мало того, что это ювелирная композиторская работа, но ещё такая глубокая мысль, там обо всём так просто…
– Там тоже всё увиденное за краем.
– Да, как и последний квартет.
– Нет ли у вас мысли поработать над Шубертом?
– Я предполагал, что вы об этом спросите. Вы знаете, я пока немного боюсь к этому прикасаться. Я пробовал немного петь Шуберта. На самом деле в концертах я пел только «Лесного царя». Это большее испытание для пианиста, чем для певца. Там есть что поиграть. На самом деле я для себя придумываю отговорку, что у меня нет времени. Загруженность только в опере на самом деле колоссальная. Может быть, если будет время, я соберусь немного с силами. Но понимаете, для того чтобы погрузиться в эту музыку, надо быть полностью свободным от всего другого.
– Вам нужен пианист; не концертмейстер, даже лучший, а именно пианист. Если надумаете когда-нибудь работать над Шубертом, то, если вспомните про моё существование, могу порекомендовать нескольких пианистов вашего возраста.
– У меня самого есть некоторые идеи.
– Начать можно с «Прекрасной мельничихи».
– Но уж, по крайней мере, не с «Зимнего пути»!
– «Зимний путь» нужно держать в уме обязательно: спеть его – задача каждого уважающего себя баритона.
– Ну, посмотрим. Пока из проектов ближайшего будущего всё-таки для меня приоритетен Чайковский. Его я очень хочу спеть. Шуберт для меня не так актуален на сегодняшний день, как Чайковский. До Шуберта надо дорасти. У меня такое ощущение, что я пока не дорос. (Я не кокетничаю, говорю как есть.)
– Я даже не предлагаю вам сейчас спеть «Зимний путь».
– Хотя я всё время об этом думаю.
– А вот «Мельничиху» – это вполне вам по силам. Кстати, вы знаете, какая, по-моему, лучшая запись «Мельничихи»? Тенора Георгия Виноградова, на русском языке. Вы не слышали?
– Я «Мельничиху» вообще на русском языке не слышал.
– Запись с пианистом Орентлихером. Потрясающая запись. Тут такая прелесть понимания самого текста.
– Ну, с Фишером-Дискау сложно кого-то рядом поставить… Но меня совершенно потряс Томас Хэмпсон – он в 1997 году сделал запись, где на рояле играет Заваллиш. Он там поёт потрясающе. Я не знаю, что там с ним случилось потом, – сейчас он поёт немного не так. Но тогда это была фантастика.
– А Малера не пробовали петь?
– Пробовал, но пока как-то не было оказии спеть его со сцены. Хотя, конечно, «Песни странствующего подмастерья» я тоже хочу сделать. Идей много, но весь вопрос в том, как сделать программу.
Допустим, у нас сейчас была идея этого концерта, и я пришёл к Дмитрию Александровичу Сибирцеву и сказал: «Я хочу спеть Пуленка». Потом мы начали думать, что к нему «прицепить». Возник Равель. Тости – это вообще давняя моя мечта: спеть хотя бы отделение песен Тости. Поэтому здесь всё совпало. Если удастся сделать что-то аналогичное, где можно спеть Малера, то конечно споём…
– Большое спасибо, что при вашей загруженности нашли два с лишним часа на интервью.
– Большое вам спасибо!
Беседовал Владимир Ойвин. Благодарю за помощь в расшифровке этого интервью Анатолия Львовича.
Игорь Головатенко окончил Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования (класс профессора Г. Н. Рождественского). Сольным пением занимался в Академии хорового искусства имени В. С. Попова (класс профессора Д. Ю. Вдовина).
Игорь Головатенко
окончил
Московскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования (класс
профессора Г. Н. Рождественского). Сольным пением занимался в Академии
хорового искусства имени В. С. Попова (класс профессора Д. Ю.
Вдовина).
В 2006 году дебютировал в «Мессе жизни» Ф. Делиуса с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова. С 2007 по 2014 год был солистом Московского театра «Новая Опера», где исполнил ведущие партии в операх «Евгений Онегин» и «Иоланта» П. Чайковского, «Травиата», «Трубадур» и «Аида» Дж. Верди, «Любовный напиток» Г. Доницетти, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Сельская честь» П. Масканьи.
С 2014 года - солист Большого театра России. Выступал в партиях Лопахина («Вишневый сад» Ф. Фенелона), Жермона и Родриго («Травиата» и «Дон Карлос» Дж. Верди), Марселя («Богема» Дж. Пуччини), Доктора Малатесты («Дон Паскуале» Г. Доницетти), Лионеля и Роберта («Орлеанская дева» и «Иоланта» П. Чайковского).
Лауреат международных конкурсов «Три века классического романса» в Санкт-Петербурге и конкурса певцов-исполнителей итальянской оперы в Большом театре.
Зарубежные ангажементы певца включают спектакли в Парижской национальной опере, Баварской государственной опере, неаполитанском театре Сан Карло, театрах Палермо, Бергамо, Триеста, Лилля, Люксембурга, в Театре Колон в Буэнос-Айресе, Национальной опере Сантьяго в Чили, Греческой национальной опере, Латвийской национальной опере, а также на престижных оперных фестивалях в Уэксфорде и Глайндборне.
Игорь Головатенко работал с известными дирижерами, среди которых Михаил Плетнёв, Владимир Спиваков, Туган Сохиев, Василий Синайский, Кент Нагано, Джанлуиджи Джельметти, Лоран Кампеллоне, Кристоф-Маттиас Мюллер, Энрике Маццола, Роберт Тревиньо; среди режиссеров, с которыми сотрудничал певец, - Франческа Замбелло, Эдриан Ноубл, Элайджа Мошински, Роландо Панераи.
Часто выступает с Российским национальным оркестром под руководством Михаила Плетнёва (в частности, участвовал в концертных исполнениях опер «Кармен» Ж. Бизе, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха и «Евгений Онегин» П. Чайковского, а также музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»). Принимает участие в Большом фестивале Российского национального оркестра. Выступал с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Здесь сразу отступлю от хронологии. После декабрьской премьеры «Дон Карлоса» на банкете в Большом театре ко мне подошла с поздравлениями эффектная дама, оказавшаяся Ольгой Ростропович. Как я был рад и польщён, что познакомился с дочерью моего кумира юности Мстислава Леопольдовича, с которым мечтал встретиться, но так и не довелось! Более того, я, как бы, «педагогический внук» Ростроповича, мой профессор по виолончели Лев Владимирович Гохман учился сначала у Святослава Кнушевицкого, а потом у Ростроповича.
- Что подвигло оставить виолончель?
Долгая история. Видно, были некие «тайные знаки». Мне хотелось дирижировать. В 19 лет я спонтанно оказался за пультом студенческого оркестра, в котором играл сам. Заболел дирижёр за две недели до концерта, надо было выручать ребят. Мне предложили сделать программу из 3-го концерта Бетховена для фортепиано, Увертюры к «Свадьбе Фигаро» и «Концертной Симфонии» Моцарта. Потом дирижировал и «Франческу да Римини» Чайковского, и произведения современных саратовских композиторов. Позднее, уже из Москвы студентом приглашали несколько раз на концерты в Саратовскую филармонию. Программы делали интересные – например, французской музыки с «Римским карнавалом» Берлиоза. Там же я впервые продирижировал «Дон Жуана» Р. Штрауса. Так что сначала была практика дирижирования, потом уже учился.
После 3-го курса Саратовской консерватории, я поступил в Московскую в класс В.С.Синайского на симфоническое дирижирование. Через два года наших занятий Василий Серафимович внезапно оставил консерваторию. Какого же было моё изумление, когда перед началом нового учебного года мне просто сообщили в деканате: « Вы теперь в классе у Г.Н.Рождественского».
К моменту моего перехода в класс Рождественского как раз в консерватории соединили два факультета, и дирижёры-симфонисты оказалась вместе с дирижёрами-хоровиками. И многие из них, пройдя только собеседование, тоже хлынули потоком учиться дирижировать оркестром. Так что мне повезло, Геннадий Николаевич брал далеко не всех.
Вы не сожалеете сейчас, что вокальная карьера началась по нынешним временам позже, чем у коллег? То есть, лет 5-7 «потеряли» на овладение сложнейшим штучным искусством, которое пришлось оставить?
Нет, я не жалею ни о чём случившемся. И очень благодарен всем моим «довокальным» учителям! Потому что, если бы Синайский не дал мне мануальную технику и азы дирижирования, постановки рук, то у Рождественского пришлось бы трудно. Он этим просто не занимался. Его уроки были потрясающе информативны. Полтора часа бесценных сведений, которые нужно бы записывать на диктофон, чтобы потом, с 10 раза, понять всё. Но то, что должна делать кисть или локоть, его не волновало. Разве что аппликатура местами: «на три», или «на раз» дирижировать.
Теперь, когда многое в жизни произошло, я с большой нежностью вспоминаю о виолончели, оставшейся у родителей в Саратове, потому что в пальцах живо до сих пор ощущение инструмента, тянет поиграть...
О, это знакомо: мышцы вроде помнят, а возьмёшь инструмент – и он мстит тебе, не отвечает прежней взаимностью, одно разочарование…
Да, виолончель я не брал в руки по-настоящему 12 лет! Надеюсь, что может быть, когда-нибудь, позже.. когда дети подрастут и появится свободное время..
А Вы шумный были виолончелист? Именно мужчины с этим инструментом часто очень громко «страстно» дышат во время игры, допустим, на сольных сюитах Баха это очень заметно в записях!
Нет, мой профессор не признавал посторонних звуков во время музыки и строго пресекал сразу. Есть ведь и дирижёры, которые мычат, сопят и подпевают во время концерта. И ещё ссылаются на записи великих, того же Тосканини. Но эта вольность совсем не украшает, а даже мешает и оркестру, и певцам, когда маэстро ведёт себя шумно в метре от солистов. Сожалею, что многих великих «стариков» так и не довелось увидеть воочию, ни Мравинского, ни Караяна. Даже Евгения Фёдоровича Светланова. Он ещё давал последние концерты в Москве, когда я уже приехал сюда, но, увы, – не совпало. По рассказам моей жены, тоже певицы, тогда студентки Хоровой академии, участвовавшей в исполнении Восьмой симфонии Малера под управлением Светланова, это было незабываемо. Но пять лет, включая курс аспирантуры, в классе у Геннадия Николаевича тоже дорогого стоят!
Так вот, Рождественский дал пример профессионального подхода не только к технике, но и к поведению дирижёра на эстраде. Не должно быть ничего такого, что отвлекает, что может быть понято двусмысленно, жест всегда должен быть точный и понятный. Вплоть до стиля. Его коллоквиумы, когда он изящно рассуждал о разнице направлений в живописи, – это его конёк – сразу давали нам, студентам, понять всю свою малообразованность, заставляли читать и учиться, чтобы хоть на шаг приблизиться к мэтру. Геннадий Николаевич давно уже может себе позволить просто не работать с теми оркестрами, которые не в силах сыграть вместе и чисто и реализовать простейшие задачи. Он сам об этом пишет, не скрывает. Знаю, что Рождественского и поругать много охотников. Но для меня он, во-первых, – Учитель, и, несомненно, Личность большого масштаба.
- Как отнёсся маэстро Рождественский к Вашей «измене» дирижированию?
Это отдельная история. Потому что ушёл я довольно резко. Устроиться дирижёром оркестра не получалось. Надо было работать, чтобы прокормиться. Продолжать параллельно учёбу я не мог физически. Просто перестал ходить 2-й год в аспирантуру. Мне позвонили, и попросили написать заявление об уходе. А я уже словно почувствовал себя в другой, вокальной, жизни. Предыдущие профессии – и виолончель, и дирижирование, как бы остались в прошлом. Корни перехода в вокальную профессию лежат очень глубоко. Я даже сам не могу до конца ответить. Все удивлялись – как так, бросить дирижирование и начать петь?
Вообще, это как из генералитета перейти в офицерский корпус. Ведь дирижёр оркестра смолоду командует всеми, как полководец или шахматист, а певец, даже выдающийся –только шахматная фигура, более или менее значимая.
С одной стороны – да, но карьеру дирижёра я лишь попробовал, а в Москве провёл только пару концертов. Памятно, что впервые в России исполнил в 2002-м «Концертную музыку для струнных и медных («Бостонская симфония»)» Хиндемита. И что дальше?
На последних курсах консерватории у нас появился предмет «Работа с вокалистами». Вела его певица Мария Викторовна Рядчикова, ставшая моим первым педагогом по вокалу. У неё же в классе в Училище им. Гнесиных я стал концертмейстером, при том, что официального фортепианного диплома так и не получил, но на практике осваивал и читку с листа, и умение слышать солиста, и навыки транспозиции. В начале меня пытались вести как крепкого тенора, и вроде стало получаться, но при попытках вытянуть верха возникли проблемы, стало некомфортно. Тогда по обоюдному согласию решили искать другого педагога.
С помощью Светланы Григорьевны Нестеренко, которая возглавляла тогда вокальную кафедру Гнесинки, я попал к Дмитрию Юрьевичу Вдовину. Я уже понял, что хочу учиться вокалу всерьёз и петь профессионально. Вдовин меня прослушал, и я попал на годовую стажировку в Хоровую академию. Потом ещё работал полтора года концертмейстером в классе у Дмитрия Юрьевича. И должен сказать, не только занятия непосредственно вокалом, но и целый день в классе играть и слушать всех – была бесценная школа, и это время я вспоминаю с неизменной благодарностью. Вся техника и приёмы были сделаны именно тогда, лет пять назад. Сейчас удаётся позаниматься с Дмитрием Юрьевичем, к сожалению, очень редко, когда пересекаемся и есть время. Потому что как только начал работать в «Новой опере», вошёл в основной репертуар, и свободного времени практически не осталось!
Игорь, конечно, Ваш случай, когда из класса Рождественского да в баритоны –исключение. Но вокалисты, занимающиеся музыкой с детства, не редкость теперь. А вот на дефицит дирижеров, по-настоящему чувствующих певцов, в оперных театрах всё чаще слышны жалобы от грамотных солистов, которые и сами часто дирижёры-хоровики в прошлом. А каково же Вам, оценивая очередного маэстро?
Да, бывает нелегко. Вот свежий пример из «Дон Карлоса». Сразу скажу – Роберт Тревиньо для всех нас совершил подвиг. Потому что, когда он узнал, что должен доводить до премьеры брошенный главным дирижёром спектакль, это был удар для нервной системы. Он всё сделал очень достойно. Но был у нас один момент в 1-м акте, когда не могли сойтись. Для Родриго, только появившегося на сцене, трудная фраза, гибкая по агогике – и сразу высокая нота. И я не выдержал, сказал: «маэстро, вы в 3-м такте замедляете, а я – нет». Потому что он этот такт делал «на шесть», а когда сделал «на два» – всё получилось. Но для меня было сложно так сказать при всех, просто три раза подряд не вышло, пришлось.
Но вообще стараюсь не афишировать свои дирижёрские знания. Потому что поначалу в Новой Опере меня больше воспринимали, как поющего дирижёра. Да я тогда и пел гораздо слабее, чего там скрывать. Конечно, первое образование и помогает, и мешает, недостатки командира за пультом видишь лучше других, а работать с ним всё равно надо, и соблюдать такт непременно.
- Вы абсолютник?
О да! Ещё одно несчастье… Но когда пою, себя не всегда слышу. Бывает, что позиционно не попадаю. Это надо контролировать по ощущению или записывать и анализировать после рабочие моменты. Все подтвердят, и великие, и начинающие певцы. Более того, голос «на выходе», если поставить микрофон рядом с певцом и то, что слышит зритель, допустим, на Исторической сцене Большого театра на расстоянии нескольких десятков метров – большая разница. В прошлом сезоне, после простуды, пел «Травиату» в Большом, казалось, что подхрипываю, а в зале практически ничего подобного слышно не было.
Сейчас актёрски Вы на сцене убедительны, а ведь даже в скромном объёме в консерватории не проходили этот предмет.
Здесь мне очень помогла Новая Опера. Это мой родной театр. Пришёл я туда, мало что умея и вокально, и пластически. Учился всему уже в процессе, благодаря режиссёрской команде, с которой довелось работать. Много персонально занимался со мной, отрабатывая элементарные движения и поклоны, балетмейстер Иван Фадеев. Режиссёр Алексей Вэйро, когда я вводился в «Онегина», буквально не давал спуску, не пропуская ни одного лишнего или «не того» движения.
- А самая первая роль какая была?
Марулло в «Риголетто». Интересно получилось. Этим летом, 2013-го, я впервые спел самого Риголетто, и вспомнил, что семь лет назад, почти в то же время вышел на сцену в этой же опере в крошечной роли.
- Вообще, молодой баритон, поющий и Онегина, и Риголетто, достаточно редкое явление.
Ну, я считаю, Онегин достаточно крепкая партия. Другое дело, что традиционно у нас его поют почти все баритоны: и лирические, и лирико-драматические. На Западе, тем не менее, обычно Онегина поют очень крепкие голоса - раньше пели Титта Руффо, Этторе Бастианини, позже Бернд Вайкль, Вольфганг Брендель. Более того, на Западе вообще несколько иная традиция подхода к русскому репертуару. Например, партия Елецкого также считается очень крепкой, почти такой же, как Томский. Онегин - партия гибкая в плане тембра. Но всё же крепкая. Она начинается благостно так, но к финалу надо тесситурой пробить довольно плотный оркестр.
- Значит, и Бокканегру от Вас можно вскоре ждать?
О Бокканегре пока рано говорить. Но за прошедший год я спел, ни много ни мало, восемь героев Верди! Перечислю: Жермон (дебют на Исторической сцене Большого театра), Ренато – «Бал-маскарад» в трех разных театрах в Италии, Сеид-паша в «Корсаре» в Триесте, Монфор в «Сицилийской вечерне» по-итальянски в Афинах. До того, в 2011-м, пел французскую версию в Неаполе. Переучивать текст – очень тяжело далось! В Новой опере был ввод в «Трубадура», (тоже дебют!) там же Жермон, уже в постановке Аллы Сигаловой, концертное исполнение «Аиды» (Амонасро), Риголетто в Савоне, и вот, наконец, Родриго ди Поза в Большом театре.
Конечно, Риголетто пока стал пробным. Согласился, потому что это маленький театр. В Савоне есть крепость шестнадцатого века возле моря, а в ней внутренний дворик с естественной акустикой. Перед тем я уже пел там в «Бал-маскараде». Постановка уже готовая, её «слепили» и вводили всех за десять дней. А режиссёром был Роландо Панераи, великий баритон прошлого. Он меня словно благословил, я физически ощутил эту связь поколений. Встретиться с такой легендой уже событие, а услышать, как он в свои 89 лет поёт и показывает – фантастика! Он такие потрясающие верхние ноты брал! Панераи с большим вниманием отнёсся к такому молодому Риголетто. Сделал всё, чтобы мне было удобно, например, отменил парик, только подкрасили сединой волосы.
На премьере присутствовала величайшая певица ХХ века Рената Скотто, которая, оказывается, родилась в Савоне! Джильду пела её ученица – для неё это было поводом посетить спектакль. На втором представлении была не менее знаменитая Лучана Серра. И потом мы с Дмитрием Юрьевичем обсуждали, как мне повезло, что в начале пути сталкиваюсь с такими именами прошлого! И совпадения кругом: 200-летие Верди, 100-летие Тито Гобби. И восемь вердиевских партий! При «норме» в 3-4 новых роли за год.
- В какой степени Вы боитесь, нервничаете перед выходом на сцену?
Не боюсь, но волнение есть. Особенно если не до конца впето, и не на сто процентов уверен. Риголетто, кстати, боялся меньше, чем казалось бы. Потому что партию мы с Вдовиным сделали так тщательно, что мог бы спеть в любом состоянии. И вся команда плюс талантливый дирижёр Карло Риццари (ассистент Паппано), очень меня поддерживали.
Конечно труднее, если не вполне здоров, а петь надо. И здесь выручает школа и техника. Боязни сцены как таковой нет. Для меня это привычная среда обитания, спиной ли я стоял к залу, будучи дирижёром, или повернулся теперь лицом.
Ваша востребованность в опере радует. Но музыканту высшей лиги не хочется ли сходить «налево» - спеть что-то изысканно-камерное, побыть в образе, допустим, «Странствующего подмастерья» Малера?
Ещё как хочется! Не отказываюсь даже от скромных камерных вечеров. Видите ноты? Это к «Концерту в фойе» Новой оперы. Там буду петь цикл Равеля «Три песни Дон Кихота к Дульсинее», романс Рахманинова «Арион» и даже «Лесной царь» Шуберта. Эта программа в рамках традиционной нашей Крещенской недели вся посвящена литературным сюжетам (беседа состоялась еще до начала Крещенской недели – прим. авт. ).
Исполнять камерную музыку нет возможности часто, потому что да, плотно занят в спектаклях. Никто в этом не виноват – так получается. Но уже мечтаю о программе из Чайковского и Глинки с Семёном Борисовичем Скигиным в июне вместе с тенором Сергеем Радченко из Молодёжной программы Большого театра. В этом плане я по-доброму завидую Молодёжке. У них чуть не каждую неделю какие-то камерные программы, концерты. Мне этого очень не хватало в начале пути. Я много занимался и сразу начал активно петь в спектаклях, но только лишь оперное пение слегка зашоривает музыкантски, тем более, если партии одноплановы. И даже великого Верди, или шире –итальянцев, хочется «разбавить» порой немецкими Lieder или тонкой французской лирикой Дебюсси, Шоссона.
Если вдруг предложат спеть «Воццека» или «Кардильяка» Хиндемита, кто перевесит – выпускник Рождественского, знакомый не понаслышке с Нововенской школой, или умный вокалист, понимающий, что после Берга бельканто уже можно и не спеть?
Названные партии я бы пока петь не стал. «Воццек» музыка не только сложная, но и критическая в плане вокала. Если в веризме, где много крика, всё же имеется и кантилена, то Воццек – на грани оперного пения как такового. И потом там сложно войти в образ психологически. Даже Риголетто я решил, что лучше отложить на несколько лет, хотя для данного этапа получилось удачно. Трагический горбун тоже требует нервов и самообладания, чтобы с холодной головой петь «Вендетту» и не заходиться. А Воццек гораздо страшнее и по музыке, и по сюжету. Там всё так закручено! У Хиндемита я более всего хотел бы спеть «Художника Матиса», люблю эту музыку. Но тоже не сейчас, партия требует большей зрелости. Именно к специфическому репертуару ХХ века я в данный момент не стремлюсь. В ближайшие годы – Верди, бельканто, отчасти французская музыка.
- А Моцарт, которого многие певцы считают чуть не лечебным для голоса?
К сожалению, пока только в классе учил и на паре прослушиваний выносил отдельные арии. Дмитрий Юрьевич считает, что я не моцартовский певец. Хотя сам думаю, что мог бы спеть и Графа, и даже Дон Жуана, но для этого нужна большая гибкость голоса. И, что важнее, кто-то ещё должен захотеть меня увидеть в этой партии. Есть много более подходящих моцартовских баритонов.
Давайте теперь отдельно про Вашего Родриго, марказа ди Позу, наделавшего шуму, в самом лучшем смысле. Вы ожидали такого бурного одобрения в прессе последней работы? Словно дебют у Вас заново!
Нет, не ожидал. Честно старался сделать всё максимально хорошо, выкладывался на репетициях и спектаклях. Думал, что получается. Но когда вышел на премьерные поклоны, то овация зала почти сбила с ног.
Утверждают, попали очень в образ! Только надеюсь услышать настоящего Родриго в новой, летней серии спектаклей, но даже по фрагментам в You Tube –согласна. А Шиллера читали в период работы?
Конечно! В переводе Мих.Достоевского с предисловием К.Батюшкова, которое тоже многое объясняет. В частности то, что Поза у Шиллера – центральный персонаж. Идеи, вложенные в уста ди Позы – это мысли самого Шиллера, его «альтер эго». Может потому он так много переделывал саму драму, добиваясь наиболее сильного и понятного современникам выражения своей философии. И у Верди Родриго – один из центральных, если не самый главный персонаж. Потому что музыкально партия обширней и богаче прочих.
Но как узнала из нового буклета о «Дон Карлосе» Большого театра, щедрость Верди по отношению к ди Позе имела практический характер. Баритон, что готовил эту роль в самой первой Парижской премьере, был очень хорош, чуть не самый яркий певец в составе. И прямо в процессе репетиций Верди дописал для Родриго чудесный романс «Carlo, ch"è sol il nostro amore»
Может быть. Но «Дон Карлос» столько раз переделывался в принципе! Недавно был в Милане, заглянул в фирменный нотный магазин Ricordi. Они издали удивительный двухтомник всех редакций «Дон Карлоса», как французских, так и итальянских. Оказалось, что концептуально центральный дуэт ди Позы и Филиппа композитор переписывал три или четыре раза. Все варианты есть там в клавире, очень интересно проследить, как Верди шёл к окончательному.
- Что для Вас превалирует в ди Позе, романтический идеалист, или, на что чаще нажимают, активный революционер?
Образ сложный, его можно трактовать по-разному, даже от спектакля к спектаклю смещая акценты. Но мне кажется, что Родриго прежде всего тонкий искусный политик, а потом уже друг и всё прочее. Всё таки, для него главное – идеи, которые он пытается внушить даже Королю, которые близки идеям века Просвещения. Вообще опера «Дон Карлос», и декорации нашей постановки Большого театра это подчёркивают, очень мрачная. Несчастная, раздавленная судьбой Елизавета, Карлос, мечущийся между поисками любви и продолжением политической карьеры, которой нет и быть не может, потому что он человек не вполне адекватный. Филипп – тиран и деспот, но не лишённый родственных чувств, которым нет хода, поскольку ни Елизавета, ни Карлос не могут ответить ему взаимностью. Над всем этим царством мрака возвышается гибельная фигура Инквизитора. Опера, я бы сказал, безысходная. И только Поза как тот самый «луч света в тёмном царстве», потому что пытается устремиться к высоким идеям, призвать к гуманности, вселить надежду. Да, он не может прервать или отменить казнь еретиков, но он откровенно говорит Королю, что тот неправ. Очевидно, что такой рыцарь не мог реально существовать при дворе Филиппа II. Это явный художественный вымысел, не становящийся от того менее прекрасным.
Довольно редкий случай в оперной драматургии, когда баритон и не соперник тенору за обладание сопрано, и не страдающий отец, и не интриган-злодей.
Да, особое амплуа, тем и ценно.
- Ещё один пример такого особого – Гамлет у Амбруаза Тома, как раз для баритона. Хотели бы?
Очень. Мечтаю. Когда в Новой опере хотели меня вводить в «Гамлета», то, к сожалению, спектакль сняли. И пока конкретных предложений нет, потому что опера Тома ставится редко.
- Вскоре Вы должны петь Онегина в Неаполе, в знаменитом театре Сан-Карло.
Театр мне уже знаком по «Сицилийской вечерне». Акустика там великолепная! Можно петь в любой точке сцены и в любую сторону – слышно всё, потери в зале невелики. Сан-Карло никогда капитально не реставрировался, в отличие от Ла Скала, это само по себе бесценно, учитывая почти трёхвековую историю этого одного из старейших оперных домов Европы! Мне повезло петь в двух самых больших оперных театрах Италии, кроме Сан-Карло это ещё и театр Массимо в Палермо. Последний также считается одним из самых крупных театров в Европе.
- Чувствуется ли в процессе работы пресловутое разгильдяйство южан?
Нет, я бы не сказал. Расписание выдавалось нам на месяц вперёд и всё соблюдалось. Обстановка внутри команды была очень доброжелательна. Разве что гонорар потом почти год пришлось ждать. Но это общая итальянская тенденция, во Флоренции считается нормальным ждать денег два-три года.
- Общаетесь там с коллегами по-итальянски?
Да, язык осваивал практически сам, потому что когда нарисовался первый контракт в Италии, Дмитрий Юрьевич сказал: «Учи итальянский, срочно». За месяц мне пришлось не только освоить махину «Сицилийской вечерни» на французском (спектакль длился 4 с половиной часа!), но и попытаться заговорить по-итальянски. Там, среди коренных носителей, всё оказалось проще.
Когда спектакль длинный, некоторые певцы жалуются, что паузы в партии, если персонаж долго отсутствует на сцене, их расхолаживают.
Про себя так сказать не могу, может быть, пока не совпадало. Но партии, безусловно, все разные и различна концентрация у артистов. В том же «Дон Карлосе» почти не уходишь со сцены! Разве что, пока король Филипп страдает в кабинете, есть возможность передохнуть. На спектакли приходил за 3 часа до начала – это такая у меня привычка. Мне так удобней, всё не спеша, больше часа надо распеваться, чтобы чувствовать себя полностью готовым. Это вопрос настройки скорее на ментальном уровне. Когда предстоит одна ария в концерте, готовишь себя совсем иначе, чем на большущую сложную партию. Я даже об этом не думаю специально, а организм сам настраивается на длительный марафон.
Мой последний вопрос заведомо провокационен. Представим, что вдруг спектакль остался без дирижёра – заболел, не прилетел и т.д. И, зная о Вашем первом образовании, умоляют спасти положение, встать за пульт.
Ой, только не это! Я из дирижёрской профессии вышел давно. И даже если я хорошо знаю нужную партитуру, то не возьму на себя смелость провести спектакль. Без практики руки уже немножко забыли как надо, и лучше это доверить более подготовленному человеку. Бывают, конечно, катастрофические ситуации без выбора, но мне, слава Богу, пока не доводилось, и, надеюсь, не придётся с ними сталкиваться.
Мне предлагали какие-то своеобразные концерты, где бы я то играл на инструментах, то дирижировал, то пел. Я отвечал, что не «поющий дирижёр», а оперный певец. И то, что в прошлом – там и осталось покуда. Если когда-нибудь, седой и старый, я захочу вернуться к дирижированию – другая тема, которую пока нет смысла обсуждать. Сейчас я занимаюсь серьёзно оперным пением и не хочу делать шаги, которые могут быть истолкованы как непрофессиональные. В современном мире надо своё делать либо очень хорошо, чтобы преуспеть, либо не делать вовсе, надо держать уровень.
Беседовала Татьяна Елагина
Головатенко, Игорь Александрович (род. 17 ноября 1980)- российский оперный певец (баритон), ведущий солист Большого театра (с 2014 года) и Московского театра «Новая Опера» (с 2007 года) .
Биография
Игорь Головатенко родился в Саратове, в семье музыкантов.
Закончил Центральную музыкальную школу Саратова по трём специальностям: фортепиано (кл. Эльвиры Васильевны Черных/Татьяны Фёдоровны Ершовой), виолончель (кл. Надежды Николаевны Скворцовой) и композиция (кл. Владимира Станиславовича Мишле).
В 1997 году поступил в Саратовскую государственную консерваторию им. Л. В. Собинова, в класс виолончели профессора Льва Владимировича Иванова (Гохмана), где учился до 2000 года. Выступал в качестве солиста с оркестрами Саратовской филармонии и Саратовской консерватории, исполнил виолончельные концерты Л.Бокеррини, К. Сен-Санса, А. Дворжака, «Вариации на тему рококо» П. И. Чайковского. С оркестром «Молодая Россия» под управлением М. Горенштейна сыграл Первый концерт Шостаковича для виолончели с оркестром (2001 год, Саратов, Зал Саратовской филармонии).
В 1999 году впервые встал за пульт симфонического оркестра Саратовской консерватории, с которым сотрудничал вплоть до 2003 года. Также выступал с симфоническим оркестром Саратовской областной филармонии в качестве приглашённого дирижёра. Впервые исполнил сочинения саратовского композитора Гохман Елены Владимировны (1935-2010) «Ave Maria» (2001 год) и «Сумерки» (2002 год) для солистов, хора и оркестра. Среди симфонических произведений, исполненных за это время: «Дон Жуан» Рихарда Штрауса, «Франческа да Римини» Чайковского, увертюра «Римский Карнавал» Берлиоза, «Болеро» Равеля и др.
В 2000 году поступил в Московскую государственную консерваторию им П. И. Чайковского на отделение оперно-симфонического дирижирования в класс профессора Василия Серафимовича Синайского. Окончил с отличием в 2005 году в классе Народного артиста СССР, профессора Геннадия Николаевича Рождественского. Во время учёбы в Московской консерватории впервые в России продирижировал «Концертом для деревянных духовых, арфы и оркестра» П. Хиндемита (2002, Малый зал Московской консерватории).
В 2006 году поступил на стажировку в Академию хорового искусства в класс сольного пения профессора Дмитрия Юрьевича Вдовина (ныне руководителя Молодёжной программы Большого театра), у которого продолжает совершенствоваться.
В апреле 2006 года состоялся вокальный дебют на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки. Исполнил партию баритона в «Мессе жизни» английского композитора Фредерика Делиуса (текст на немецком языке, по произведению «Так говорил Заратустра» Фр. Ницще) с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова, и хором Академии хорового искусства под руководством В. С. Попова. Первое исполнение в России.
С 2007 года является солистом Московского театра «Новая Опера». Дебютировал в театре в партиях Марулло («Риголетто» Дж. Верди) и Оратора («Волшебная флейта» Моцарта).
В октябре 2010 года в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга состоялся дебют певца в Санкт-Петербурге. Были исполнены фрагменты «Мессы жизни» (некоторые хоровые номера и части, где солирует баритон) в сопровождении Академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова.
С 2010 года являлся приглашённым солистом Большого театра России, где дебютировал в роли Фалька («Летучая мышь» И. Штрауса, дирижёр Кристоф-Матиас Мюллер, режиссёр Василий Бархатов).
Первое выступление певца на Исторической сцене Большого театра состоялось в роли Жоржа Жермона («Травиата» Дж. Верди, дирижёр Лоран Кампеллоне, постановщик Франческа Замбелло) в 2012 году.
С сентября 2014 года - солист Большого театра.
Гастроли
| Год | Театр/Город | Произведение | Партия |
|---|---|---|---|
| 2011 | «Сицилийская вечерня» (режиссёр Никола Жоэль, дирижёр Джанлуиджи Джельметти) | Ги де Монфор (дебют) | |
| 2011 | Гёттинген | «Травиата» (концертное исполнение, дирижёр Кристоф-Матиас Мюллер) | Жорж Жермон |
| 2012 | Опера Гарнье (Париж) | «Вишневый сад» Ф.Фенелон (режиссёр Жорж Лаводан, дирижёр Тито Чеккерини) | Лопахин |
| 2012 | «Евгений Онегин» (режиссёр А. Жагарс, дирижёр М. Питренас) | Онегин | |
| 2012 | Театр Массимо (Палермо) | «Борис Годунов» (режиссёр Уго де Ана, партия Бориса Феруччо Фурланетто) | Щелкалов, Рангони |
| 2012-2013 | совместная постановка театров Ровиго, Савоны, Бергамо | «Бал-маскарад» | Ренато |
| 2013 | Театр Джузеппе Верди (Триест) | «Корсар» (режиссёр и дирижёр Джанлуиджи Джельметти) | паша Сеид (дебют) |
| 2013 | Национальная опера Греции | «Сицилийская вечерня» | Ги де Монфор |
| 2013 | театр Савоны | «Риголетто» (режиссёр Роландо Панераи) | Риголетто (дебют) |
| 2013 | Баварская государственная опера (Мюнхен) | «Борис Годунов» (первая редакция оперы, дирижёр Кент Нагано) | Щелкалов |
| 2013 | 62-ой Уэксфордский оперный фестиваль (дебют) | «Кристина, королева Швеции» Я. Форони | Карл Густав (дебют) |
| 2014 | Оперный театр Сан-Карло (Неаполь) | «Евгений Онегин» | Онегин |
| 2014 | Латвийская национальная опера (Рига) | «Трубадур» (режиссёр А. Жагарс, дирижёры А. Вилюманис и Я. Лиепиньш) | граф ди Луна |
| 2014 | 63-ой Уэксфордский оперный фестиваль | «Саломея» А. Мариотт | Иоканаан (дебют) |
| 2014 | Колон (театр) (Буэнос-Айрес) | «Мадам Баттерфляй» (режиссёр Уго де Ана, дирижёр Айра Левин) | Шарплес (дебют) |
| 2014 | Барбикан-холл | «Кантата Весна» С. В. Рахманинов | партия баритона |
| 2015 | Глайндборнский оперный фестиваль (дебют) | «Полиевкт» Гаэтано Доницетти | Северо (дебют) |
| 2015 | Cologne Opera (Кёльн, Германия), (дебют) | «Богема» | Марсель |
| 2016 | Оперный театр Лилля (Франция) (дебют) | «Трубадур» | граф ди Луна |
| 2016 | Grand thtre de Luxembourg (Люксембург) (дебют) | «Трубадур» | граф ди Луна |
| 2016 | Баварская государственная опера | «Трубадур» | граф ди Луна |
| 2016 | Оперный театр Кана (Франция) (дебют) | «Трубадур» | граф ди Луна |
| 2016 | Муниципальный театр Сантьяго (дебют) | «Травиата» | Жорж Жермон |
| 2017 | XXXV Международный оперный фестиваль имени Ф. И. Шаляпина в Казани (дебют) | «Евгений Онегин» | Онегин |
В 2006 г. состоялся профессиональный дебют певца - в «Мессе жизни» Ф. Делиуса с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова (первое исполнение в России).
В 2007-2014 гг. - солист московского театра Новая опера. В 2010 г. дебютировал в Большом театре в партии Доктора Фалька
(«Летучая мышь» И. Штрауса).
С сентября 2014 г. - солист оперной труппы Большого театра.
Репертуар
В Большом театре исполнил следующие партии:Доктор Фальк («Летучая мышь» И. Штрауса)
Лопахин («Вишневый сад» Ф. Фенелона) — мировая премьера
Жорж Жермон («Травиата» Дж. Верди)
Родриго («Дон Карлос» Дж. Верди)
Лионель («Орлеанская дева» П. Чайковского)
Марсель («Богема» Дж. Пуччини)
Роберт («Иоланта» П. Чайковского)
Доктор Малатеста («Дон Паскуале» Г. Доницетти)
Леско («Манон Леско» Дж. Пуччини)
Князь Елецкий («Пиковая дама» П. Чайковского)
Щелкалов («Борис Годунов» М. Мусоргского)
Дон Альваро («Путешествие в Реймс» Дж. Россини)
заглавная («Евгений Онегин» П. Чайковского)
Также в репертуаре:
Роберт
(«Иоланта» П. Чайковского)
Онегин
(«Евгений Онегин» Чайковского)
Белькоре
(«Любовный напиток» Г. Доницетти)
Фигаро
(«Севильский цирюльник» Дж. Россини)
Оливье
(«Каприччио» Р. Штрауса)
Граф ди Луна
(«Трубадур» Дж. Верди)
Амонасро
(«Аида» Дж. Верди)
Альфио
(«Сельская честь» П. Масканьи)
и другие
В январе 2017 г. принял участие в концертном исполнении оперы «Путешествие в Реймс» Дж. Россини в Большом театре, исполнив партию Альваро (дирижер Туган Сохиев). В 2018 г. ту же партию спел на премьере спектакля (режиссер Дамиано Микьелетто).
Гастроли
В 2011 г. исполнил партию Ги де Монфора Театре Сан Карло (Неаполь).В 2012 г. дебютировал в Парижской национальной опере (Пале Гарнье) в партии Лопахина («Вишневый сад» Ф. Фенелона).
В 2012 г. дебютировал в Театро Массимо (Палермо), исполнив партии Щелкалова и Рангони в опере «Борис Годунов» М. Мусоргского.
В 2012-13 гг. исполнил партию Ренато («Бал-маскарад» Дж. Верди) в Ровиго, Савоне и Бергамо (Италия).
В 2013 г. исполнил партию Сеида («Корсар» Дж. Верди) в Театре им. Дж. Верди в Триесте , Ги де Монфора («Сицилийская вечерня» Дж. Верди) в Греческой национальной опере , Риголетто в Опере Савоны , Щелкалова и Рангони («Борис Годунов» М. Мусоргского) в .
В 2013 г. дебютировал на Уэксфордском оперном фестивале , исполнив партию Карла Густава в опере «Кристина, королева Швеции» Я. Форони.
В 2014 г. дебютировал в Латвийской национальной опере , исполнив партию Графа ди Луна в опере «Трубадур» Дж. Верди (дирижер А. Вилюманис, режиссер А. Жагарс).
В 2014 г. на Уэксфордском оперном фестивале впервые исполнил партию Иоканаана в «Саломее» Р. Штрауса.
В 2015 г. на Глайндборнском фестивале дебютировал в партии Северо в опере «Полиевкт» Г. Доницетти, а в 2017 г. там же выступил в роли Жоржа Жермона в «Травиате» Дж. Верди.
В 2014 г. впервые исполнил партию Шарплесса в «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини (Театр «Колон», Буэнос-Айрес).
В сезоне 2015-16 г. исполнил партию Графа ди Луна («Трубадур») в Латвийской национальной опере, Оперном театре Лилля, Большом театре Люксембурга, Баварской государственной опере; Жоржа Жермона («Травиата») в Национальной опере Чили (Сантьяго).
В апреле 2017 г. спел партию Энрико («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти) в Опере Кельна.
В июле того же года — партию Роберта в «Иоланте» и заглавную партию в «Евгении Онегине» П. Чайковского (концертная версия) на фестивалях в Экс-ан-Провансе и Савонлинне в рамках гастролей Большого театра (дирижер Туган Сохиев). В Национальной опере Бордо участвовал в концертном исполнении оперы «Пират» В. Беллини, выступив в партии Эрнесто (дирижер Пол Дэниел).
В 2018 г. на Зальцбургском фестивале исполнил партию Елецкого («Пиковая дама» в постановке Ханса Нойенфельса, дирижер Марис Янсонс), в Баварской государственной опере - партию Графа ди Луна («Трубадур»), в дрезденской Опере Земпера - партию Энрико («Лючия ди Люммермур» Г. Доницетти).
В 2019 г. дебютировал в Вашингтонской национальной опере
, исполнив заглавную партию на премьере оперы«Евгений Онегин» (возобновление постановки Роберта Карсена; режиссер Питер МакКлинток, дирижер Роберт Тревиньо); в Королевской опере Ковент-Гарден
- в партии Жоржа Жермона («Травиата»), в той же партии впервые выступил на сцене Оперы Лос-Анджелеса
, и в партии Ричарда Форта («Пуритане» В. Беллини) - в Опере Бастилии.
В рамках гастролей Большого театра во Франции исполнил партию Елецкого («Пиковая дама» в концертной версии, дирижер Туган Сохиев, Тулуза).
Сотрудничал с такими дирижерами, как Кент Нагано, Джанлуиджи Джельметти, Лоран Кампеллоне, Джеймс Конлон и с такими режиссерами, как Франческа Замбелло, Роландо Панераи, Эдриан Ноубл, Элайджа Мошински.
Ведет активную концертную деятельность. Постоянно сотрудничает с Российским национальным оркестром под руководством Михаила Плетнева (в частности, принимал участие в концертных исполнениях опер «Кармен» Ж. Бизе, «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Евгений Онегин» П. Чайковского, а также музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»). Является постоянным участником Большого фестиваля Российского национального оркестра.
В 2011 г. принял участие в концертном исполнении оперы «Травиата» в Геттингене (с Симфоническим оркестром Геттингена, дирижер Кристоф-Матиас Мюллер). Выступал с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова и оркестром «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Распечатать